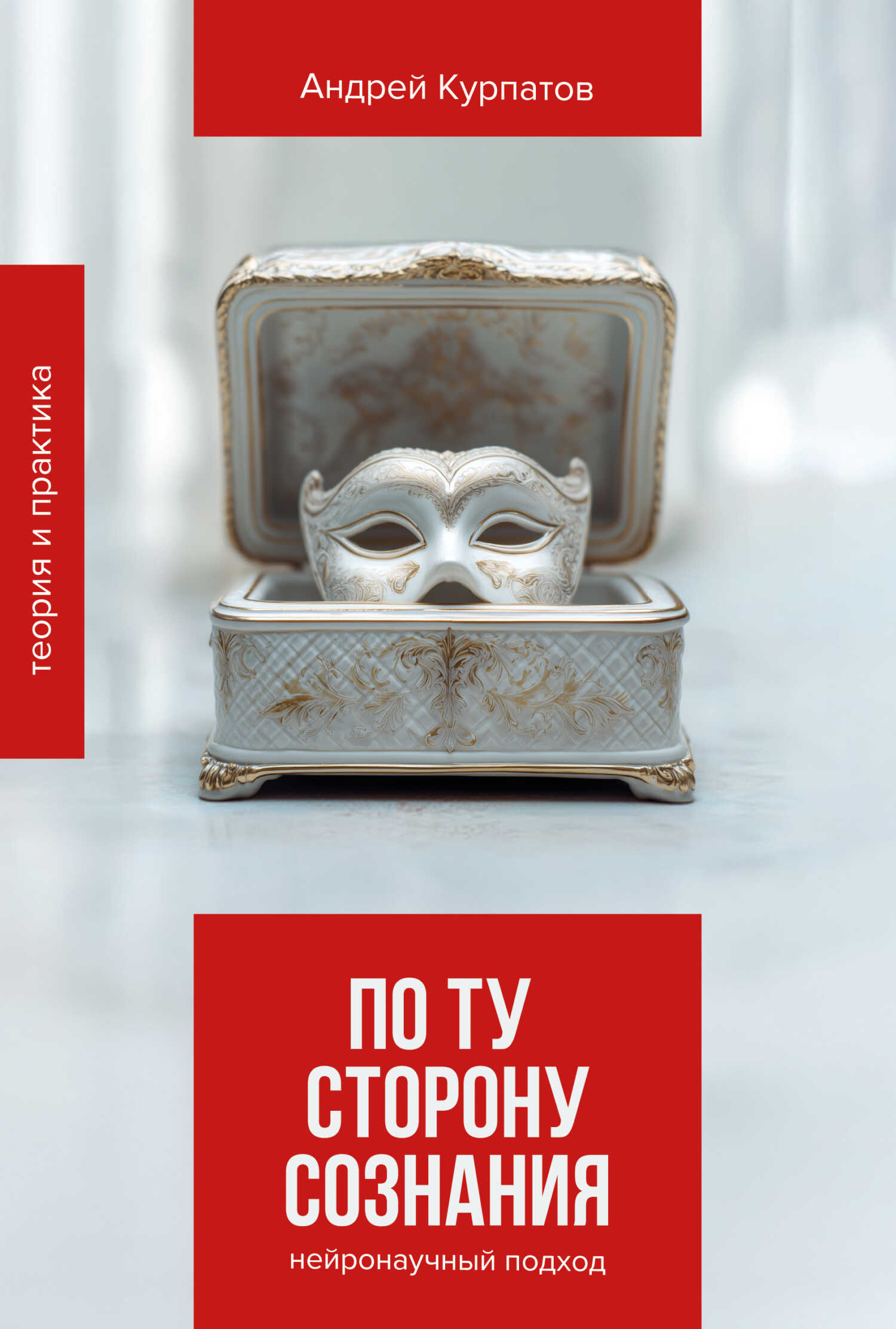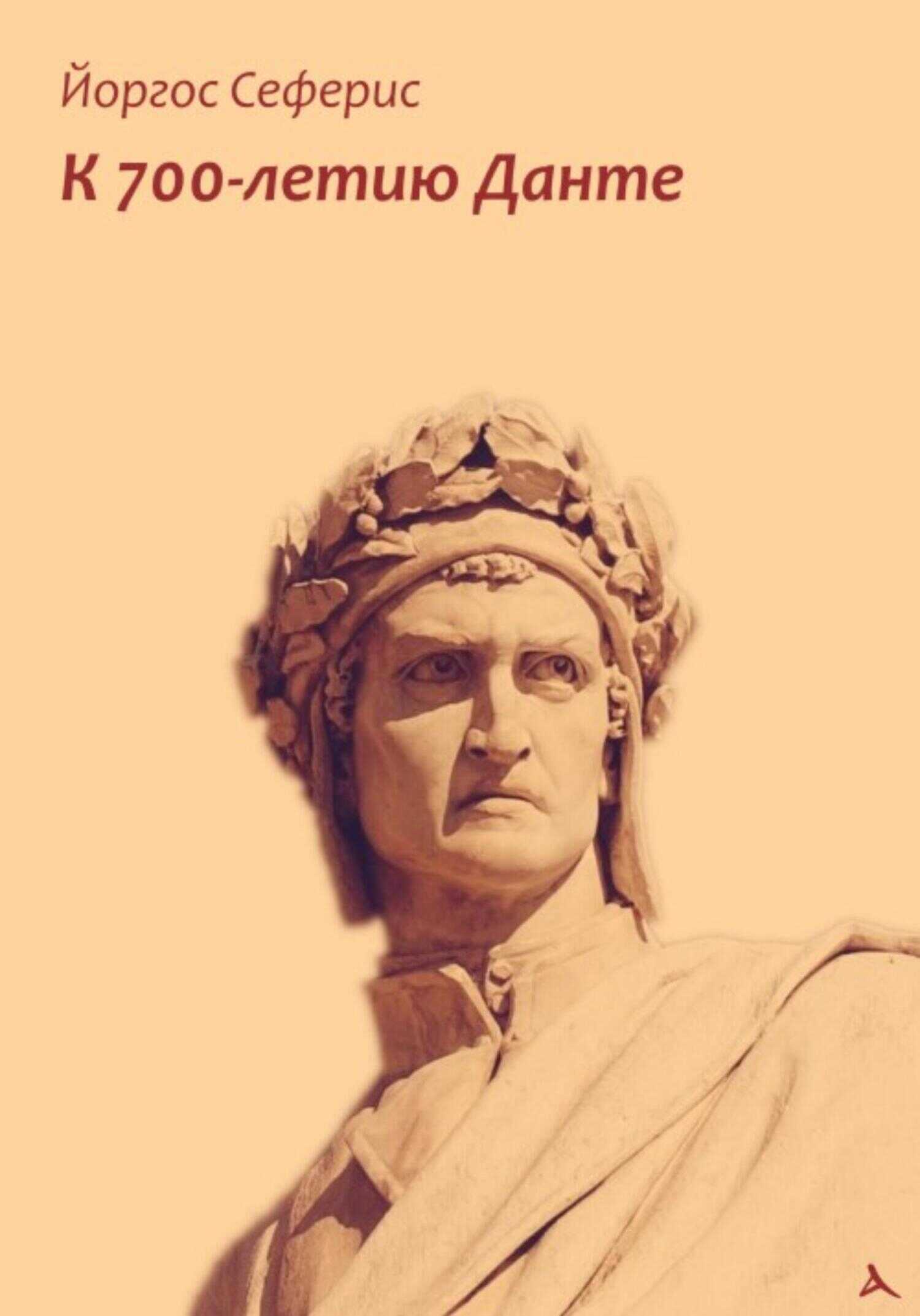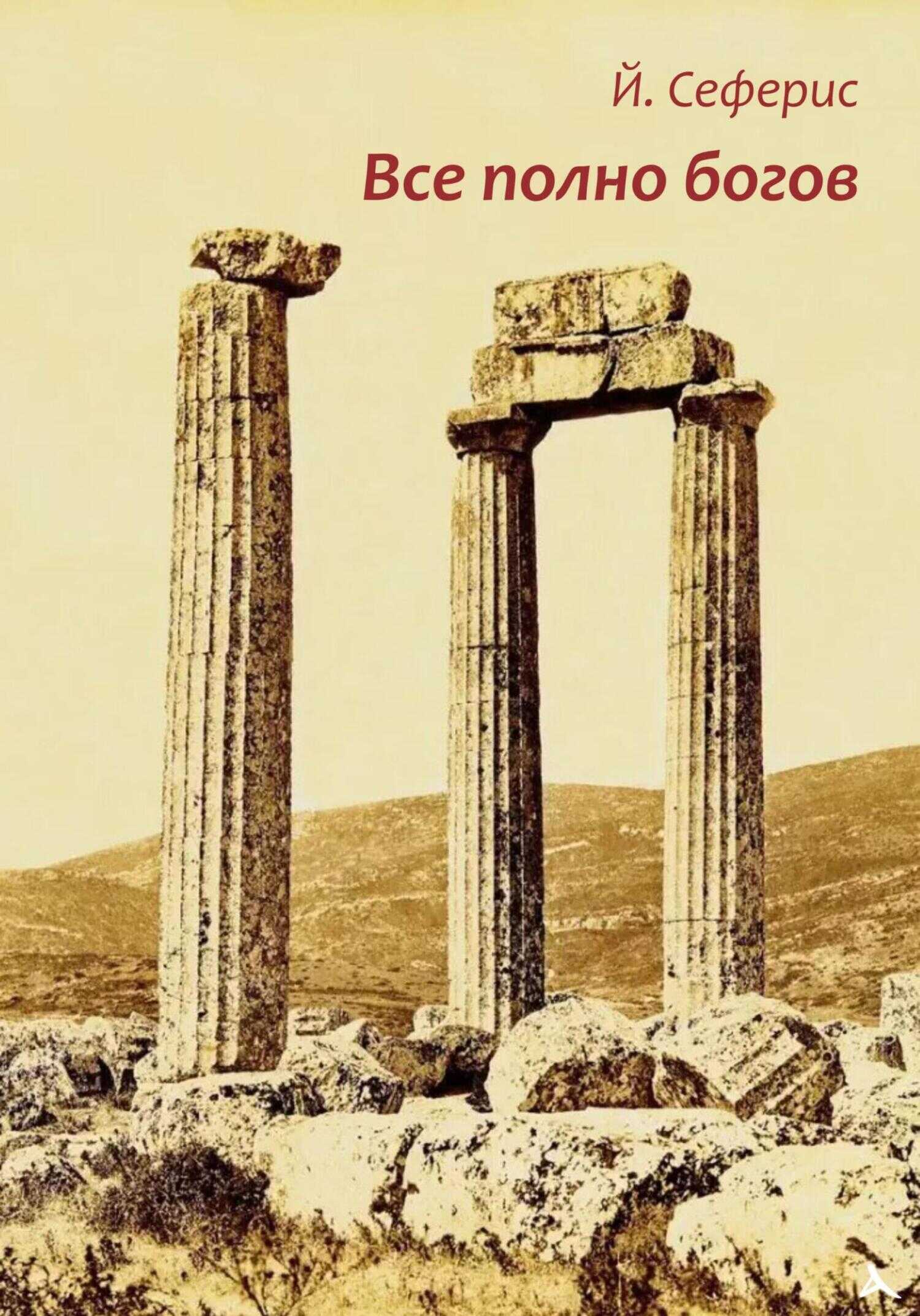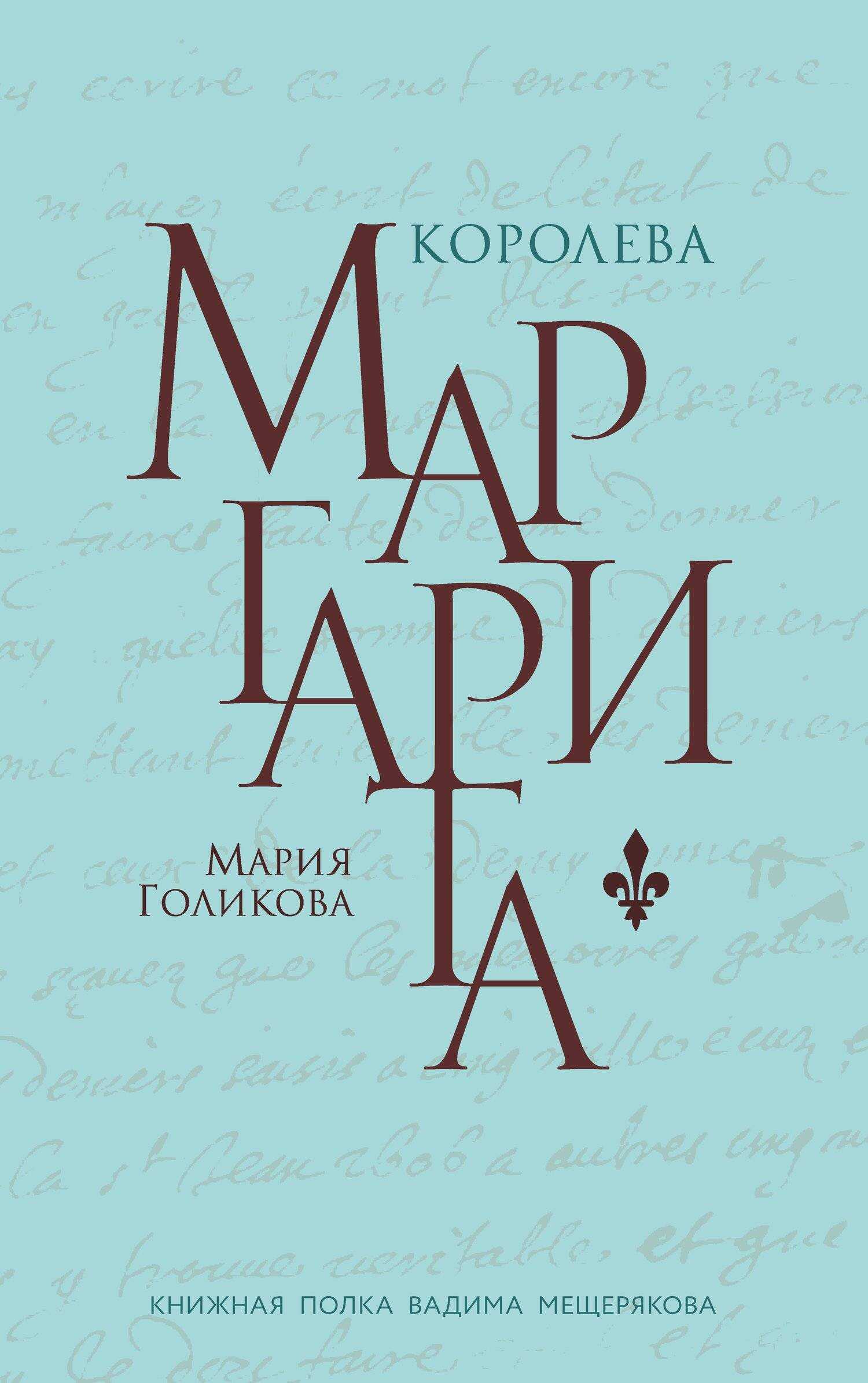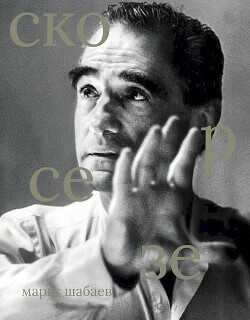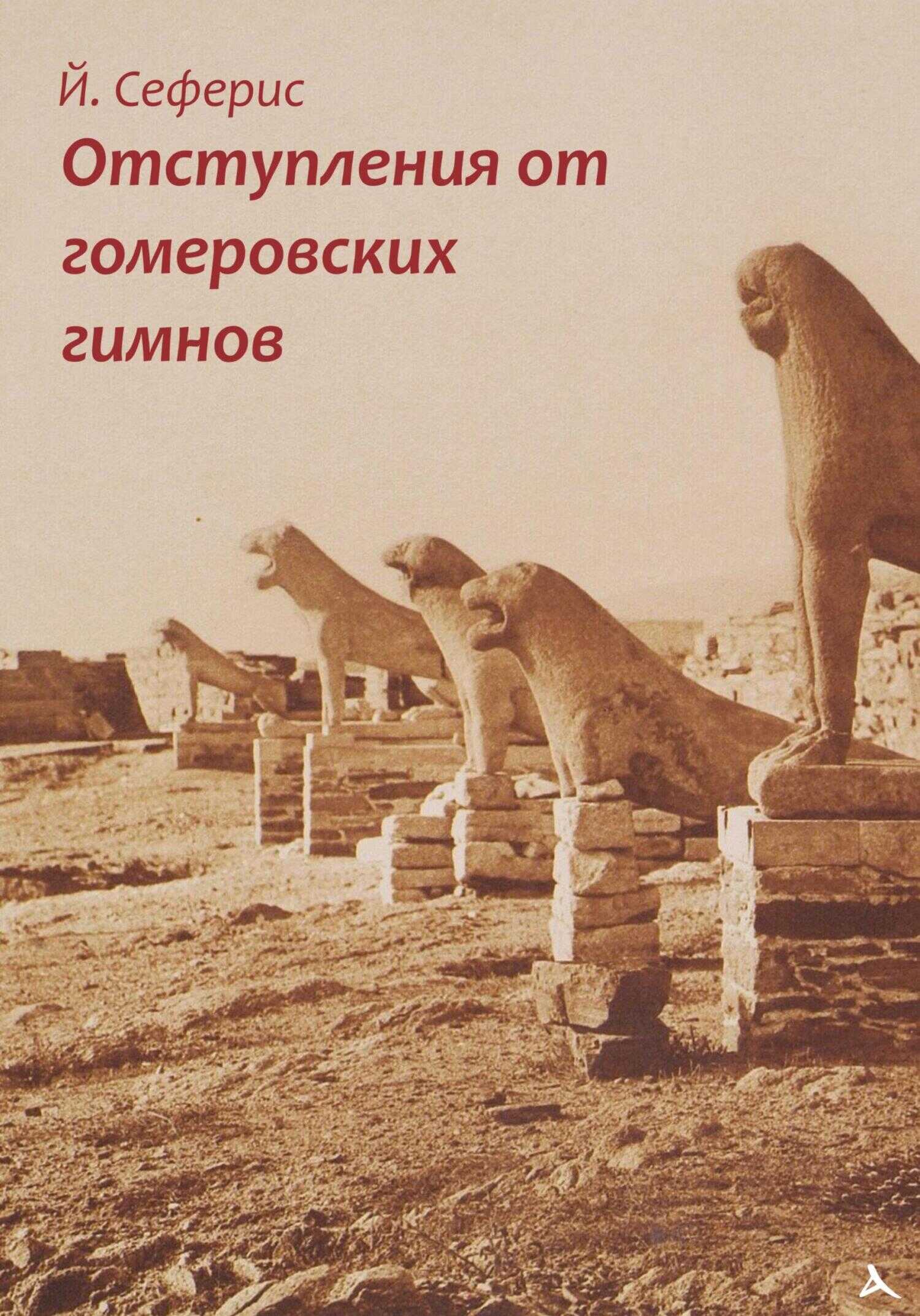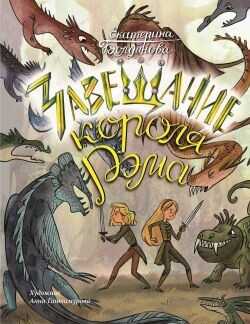Жизнь чуть теплилась, как огонек тлеющий лучины, в этом исхудавшем, изможденном маленьком теле. Живыми были только одни глаза. Голубые, почти сине-васильковые, они глядели мягко и жалобно…
Когда ей дали миску с супом, она не могла поднести ложку ко рту. Питье сочилось обратно из белых бескровных губ.
Доктор, впрочем, признал ее здоровой.
Здорова?!.
Да, как здорова былинка в голой безводной пустыне, как зеленое деревце, заглушенное в густом дремучем лесу, как сокол в неволе…
— Здорова, но не выживет. Организм слишком истощен! — глубокомысленно заключил доктор.
Смерть, казалось, уже склонилась над изголовьем постели, на которой распростерлось маленькое измученное тельце.
Жизнь еще трепетала в глазах, неподвижно уставившихся в белые, чистые стены приемного пункта…
Ребенок умирал без стона, без жалоб…
А за окном догорал кровавый закат знойного летнего вечера 1921 года.
Прошел день-другой, и на удивление всем она жила…
На третий день в праздник, после обычного завтрака, в комнату вошли двое — мужчина и женщина.
Он — высокий, худощавый и смуглый. В глазах сила и железная воля.
Она — румяная, полная, с улыбкой играющей, казалась малоразвитой, но доброй женщиной. Подошли к сестре.
— Доктор направил к вам. Позвольте посмотреть детей.
И пошли-было по палате.
На первой кровати лежала привезенная третьего дня девочка. Ее голубые глазки с усилием повернулись на вошедших, и слабая улыбка, точно луч солнца, пробежала по лицу…
Женщина ухватила за руку высокого мужчину, с внезапно подступившими к глазам слезами чуть слышно прошептала:
— Нет. Не могу смотреть больше. Возьмем ее.
Лицо мужчины потемнело. Казалось, клубок какой-то сжал ему горло…
Наконец, с усилием произнес:
— Да. Возьмем ее.
Он наклонился к девочке и крепкой рукой осторожно погладил белокурые волосы.
Потом разом выпрямился и бросил, точно отрубил:
— Возьмем ее.
Доктор и сестра не советовали брать девочку.
— Не жилец она на белом свете. Труп привезете к себе.
Но мужчина только улыбнулся.
— Раз сказано: возьмем, — значит, возьмем. Не умрет.
В голосе прозвучала такая уверенность, что доктор и сестра смолкли.
Бережно, крепкими руками взял мужчина одетую в простое платье девочку. Та прильнула к нему…
В книге для записи поступающих на приемный пункт детей против фамилии: Секлетея Михайловна Трифонова, 13 лет, появилась отметка: «взята рабочим завода „Пролетарий“ Семеном Петровичем Гвоздевым. Адрес — Красная Пресня переулок и дом такой-то».
Как осталась жива девочка, — не понимали ни доктор, ни соседи.
Одни объясняли внимательным уходом, другие крепостью тела, и никто не сказал самой главной причины.
Выходила молодую жизнь любовь рабочего и жены его, любовь, которая сильнее смерти.
Казалось, в маленькое тельце вливалась жизнь, когда Гвоздев брал на руки девочку, когда ласково гладила ее Маша, жена Гвоздева.
В начале третьей недели девочка в первый раз попросила сама есть.
— Ну, теперь ваша помголочка быстро поправится, — ласково пошутил доктор.
С легкой руки доктора стали звать девочку Помголочкой.
Скоро она уже могла сидеть, а раз, как птичка запела:
«В лесу зеленом на муравке
Скатился птенчик из гнезда».
— Ах ты наша пташечка, из гнезда выпавшая… Изломала тебя жизнь, выкинула из родной хаты…
— Ну, да мы тебя поправим.
«Дети — цветы новой жизни!..»
В нас самих-то взрослых людях столько этого самого старого осталось, что, пожалуй, никогда и обухом не вышибешь…
К примеру взять моего товарища Докина.
Двумя пулями в гражданскую войну ранен, в царское время по тюрьмам таскали, сколько раз за «неблагонадежность» места лишался, а много и в нем старого гнилья.
Праздник без вина встретить не может.
Сам хотя к попам денег не носит, зато жена — богомолка. Иной раз обругается так, что самому совестно.
На днях спрашиваю его: «Скоро ли получка?» — отвечает: «Один бог ведает».
И бога у него нет, и бог у него все ведает…
Да, вот так-то.
Не одну революцию нам совершить надо, а целых три.
Революция, чтобы старую власть новой заменить, — первая революция и, по правде сказать, самая легкая.
Двинул весь народ, и покатились гнилые столбы.
Эту революцию могли сделать мы, темные, малограмотные, нищие.
Вторая революция — это, чтобы хозяйство по-новому построить.
Эту революцию сразу не сделаешь. Многому надо учиться, много ошибок будет, пока наладим новое хозяйство.
Для первой революции нужна была, главным образом, воля.
Для второй революции мало воли, — нужно еще и знание.
Перестроим мы свое хозяйство, когда будут у нас ученые из рабочих и крестьян, когда все будут грамотны.
А третья революция — переменить самих себя.
Перестать ругаться, бить жену, калечить детей.
Перестать завидовать своему товарищу, другому рабочему.
Сохранить в сердце только одну ненависть, — к тем, кто трутнем родился и остался таким трутнем; кого на руках выняньчили мамушки да нянюшки и с пеленок научили быть барином и загребать жар чужими руками.
Переменить самого себя человек не всегда может.
Не в силах. Не отрывать же голову да приставлять другую.
Новые люди вырастут только из наших детей. И не сразу вырастут.
Сколько раз еще старая гниль и в них отзовется.
А все-таки дети — цветы новой жизни.
Мы же уже отцветаем.
Так в свободное время толковал жене Гвоздев, и внимательно слушала и что-то смекала белокурая головка Помголочки.
Как поправилась совсем Помголочка, стал посылать ее Гвоздев в школу. Жена Гвоздева, кроме того, на машине шить учила. Шила сама на людей и девочке показывала и кройку, и стежку, и все мастерство.
А по вечерам Гвоздев любил слушать, как разбирала по складам Помголочка азбуку.
Устанет она, посадит Гвоздев ее около себя и говорит так любовно, ласково.
О многом говорил Гвоздев девочке.
Простыми словами рассказывал, как мучился в прежнее время народ, как теперь в руки власть взяли.
Рассказывал он о людях по тюрьмам заморенных, о забитых плетками, о повешенных прежней властью.
Плакала не раз во время рассказов Помголочка.
Смышленая была девочка.
Сама иной раз на дворе детей соберет и рассказывает им какую-нибудь историю.
Читать бойко через полгода научилась.
Прошел год. Не узнать прежней Секлетен.
Умерла будто Секлетея от голода, а родилась новая, веселая девочка Помголочка.
Не надышатся на нее Гвоздев и жена.
Речистая стала, — страсть.
Спросит ее шутя Гвоздев: «Выдам тебя скоро замуж. Муж тебя, стрекозу, отучит болтать».
Сверкнет голубыми глазенками: «Так-то я и далась. Отучит. Я его самого учить-то буду».
Усмехнется только Гвоздев.
И росла Помголочка новым родителям на утешение.
Пришла беда нежданно, негаданно.
Весной как-то, в праздник, сидели все втроем и чай пили.
Гвоздев бубликов принес, а для Помголочки особо леденец.
Хотя и серьезная была девочка, а леденцом занялась. Сосала его и потягивала чай из блюдца…
Постучали. Слышно было, как жена соседа пошла отворять дверь…
— Письмо тебе, Семен Петрович, почтальон принес.
Взял Гвоздев письмо, раскрыл и стал читать.
Смотрит жена, — побледнел весь.
— Ты что, Семен?
— Так. Товарищ пишет из деревни, — сгорел.
Потом нахмурился немного и продолжал пить чай, как ни в чем не бывало.
Литейщиком Гвоздев был, сам будто из стали вылит.
Железный человек…
Не от товарища письмо.
Пишет отец Помголочки.
«Кланяется низко Семену Петровичу со чадами и домочадцами. А еще просит вернуть свое дите, им самим рожденную Секлетею Михайловну Трифонову».
«Убивается мать очень. Ездил я несколько раз в город Самару. Писал в разные места и марки на ответ прикладал. Все напрасно. Намеднись только получил письмо. В нем прописано: Извещается гражданин Михаил Трифонов, что дочь его взята на воспитание рабочим завода „Пролетарий“ Семеном Петровичем Гвоздевым. И местожительство указано.
Просим теперь вернуть родное дитё. Одно оно у нас.
А что в голод отдали, — сами думали помрём. Что ж, не пропадать же ребенку безвинному. Еще раз прошу: отдайте. По гроб жизни останемся вам благодарны».
И подпись: за неграмотного Михаила Васильевича Трифонова расписался Петр Маслов.