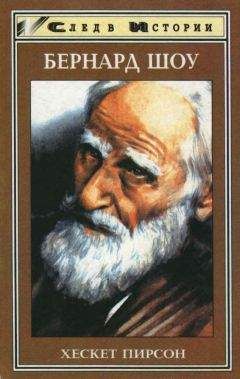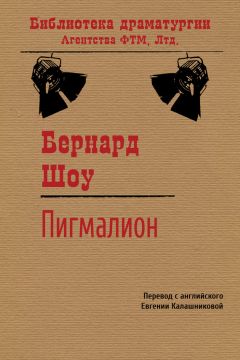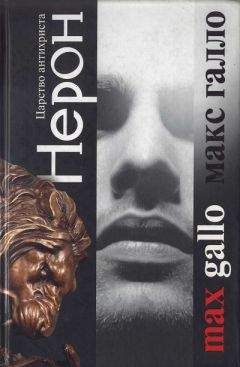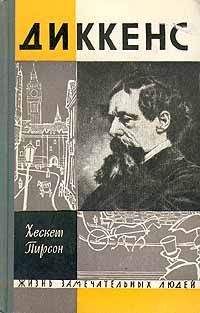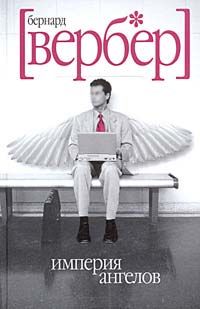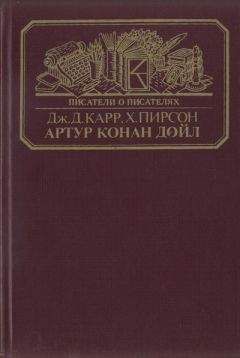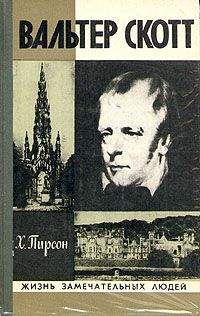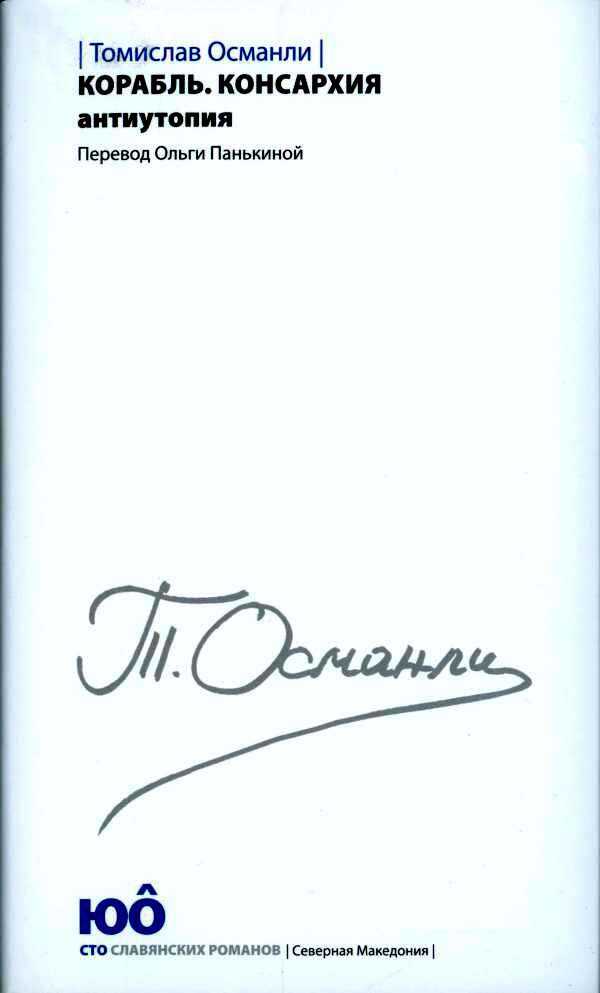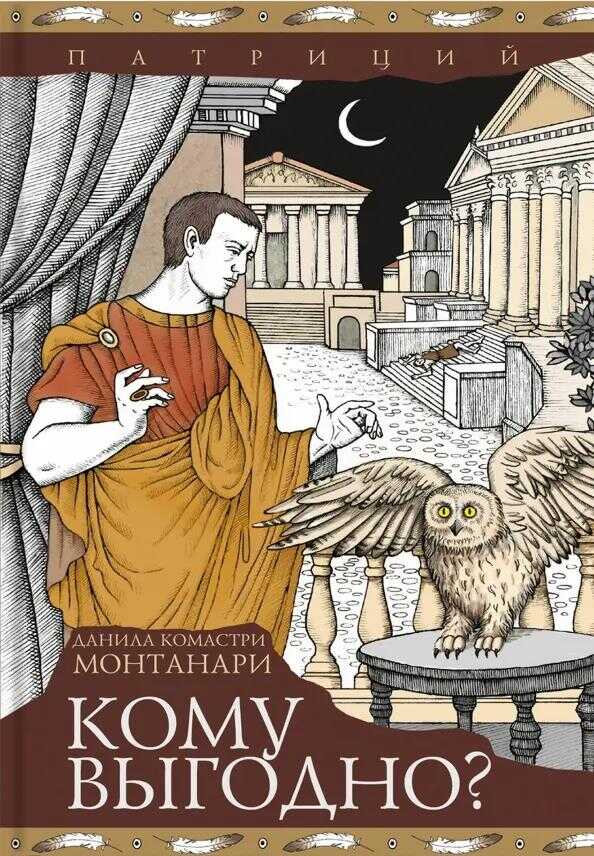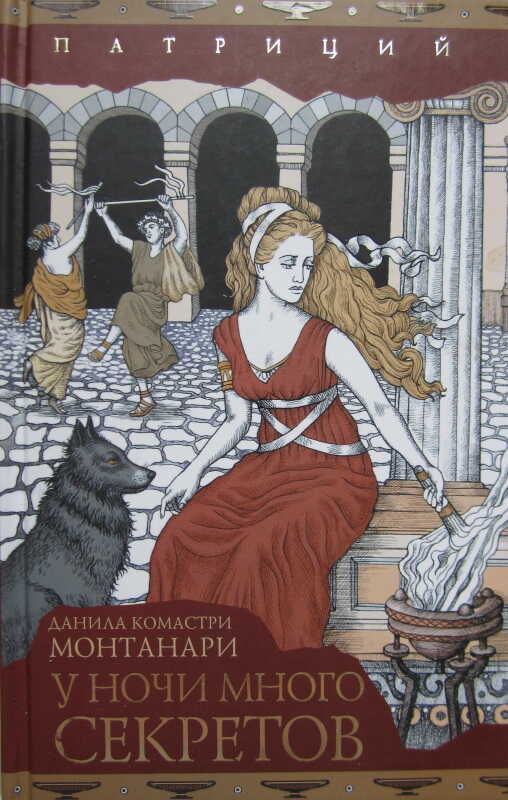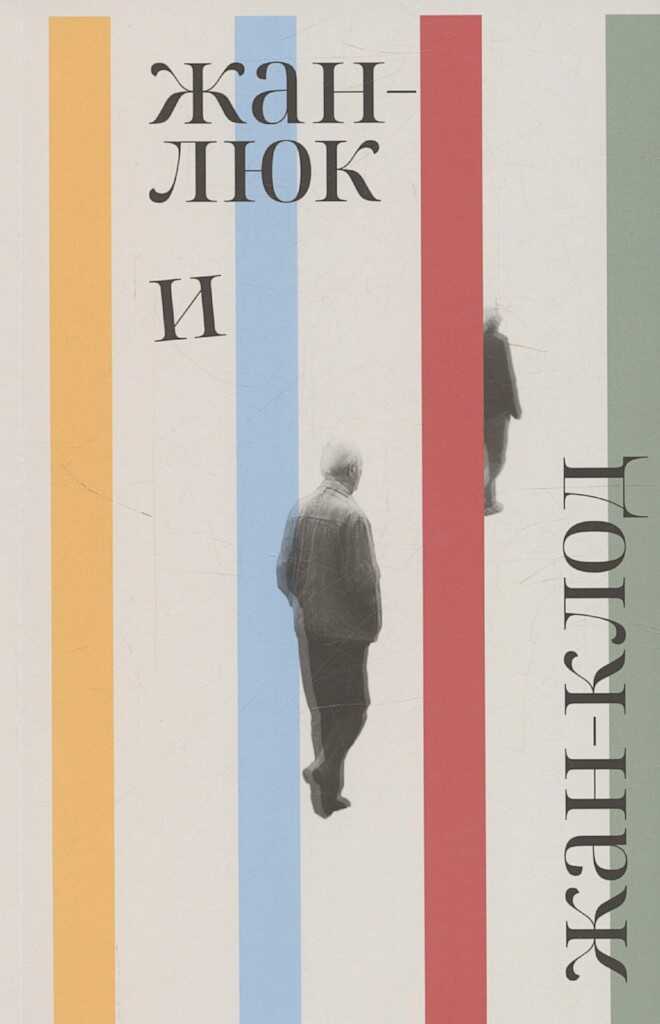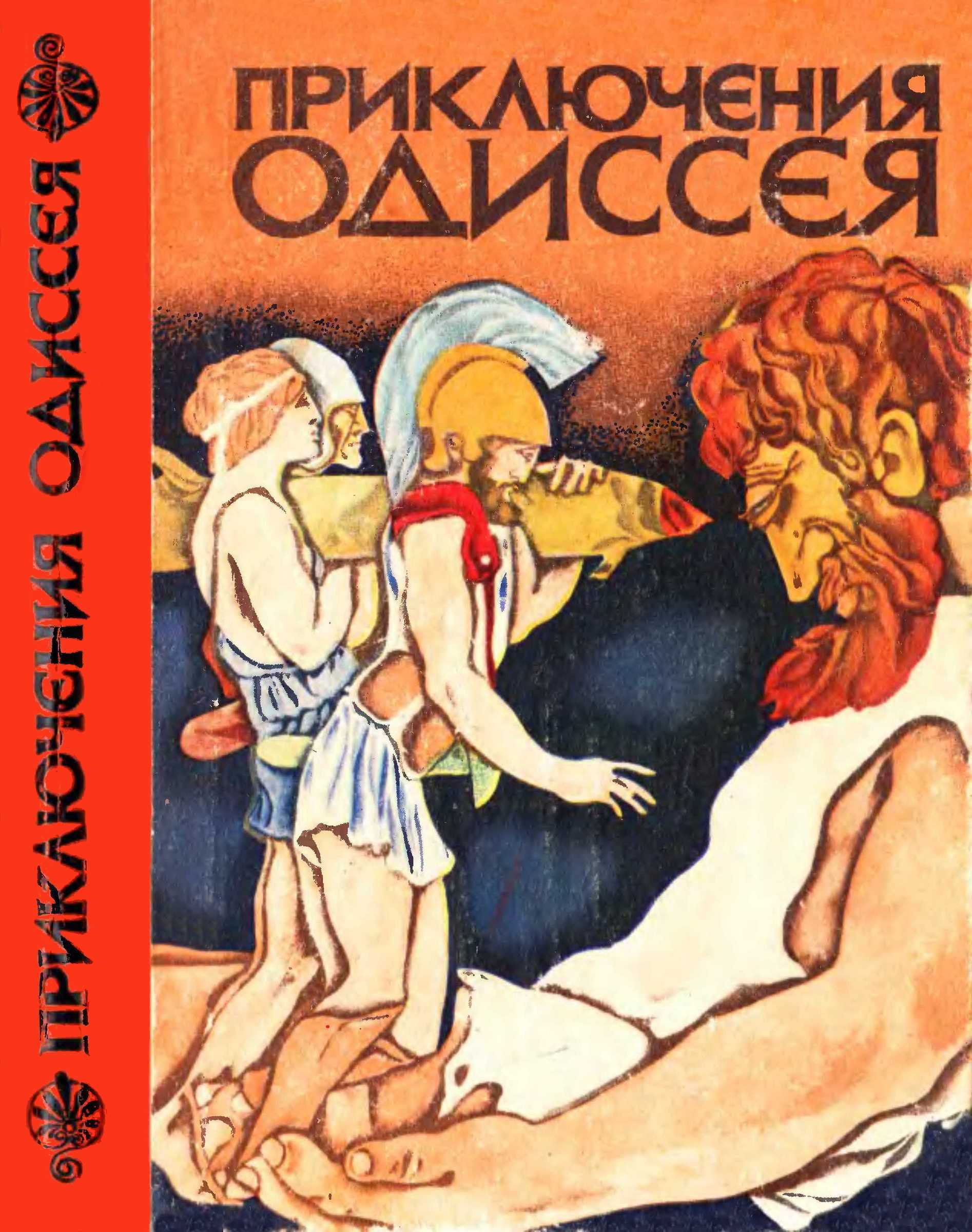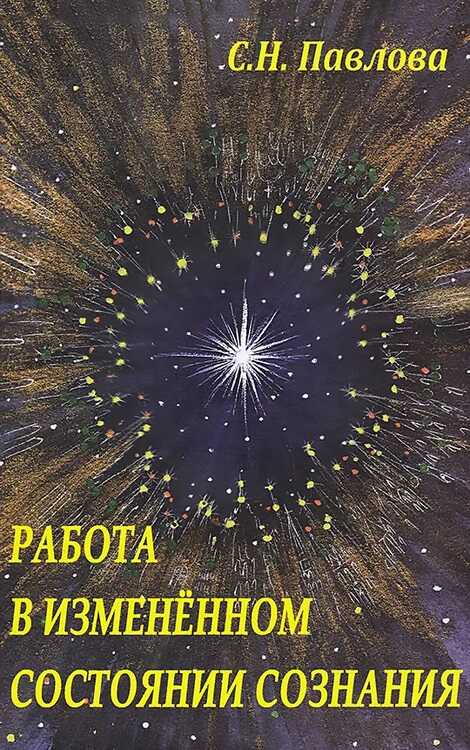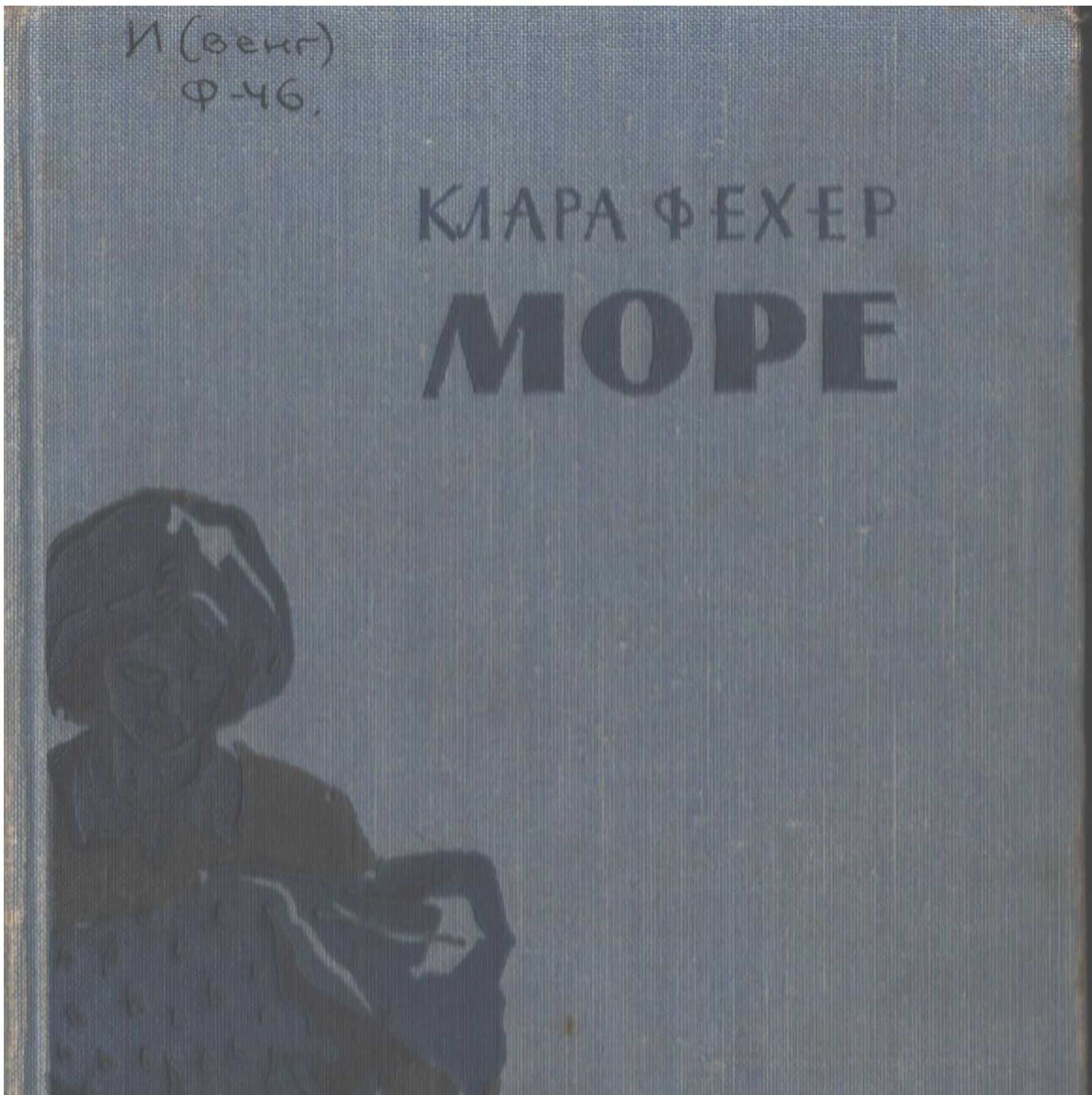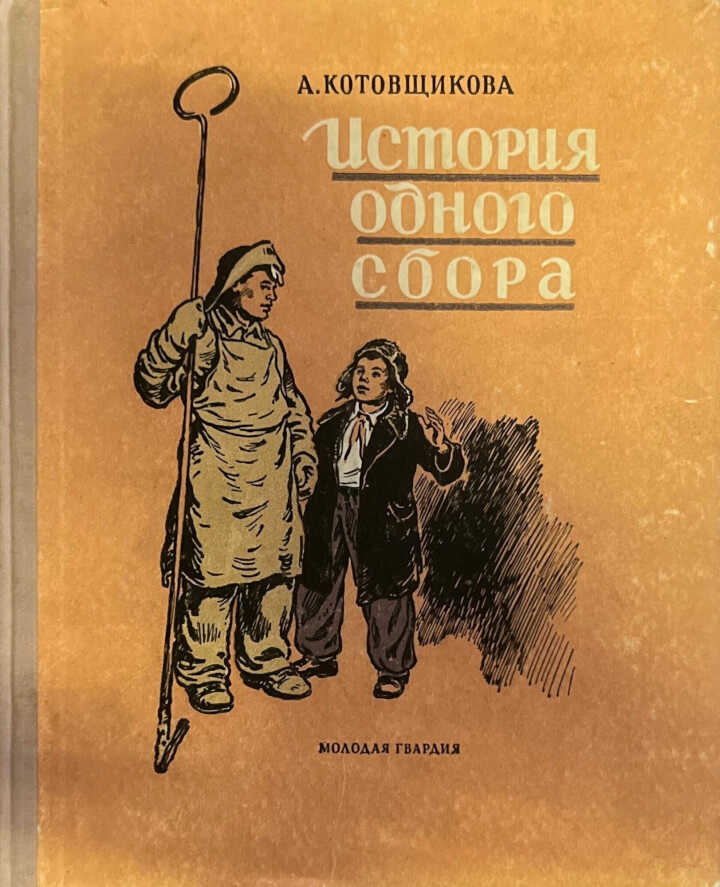Провалившись большинством голосов, Шоу подытожил свой опыт работы, написав «Муниципальную торговлю в свете здравого смысла». Из этого произведения видно, кем мог стать «умнейший из мужей своей эпохи», если бы судьба не распорядилась уже сделать его «способнейшим драматургом».
Но удивительное дело: словно сговорившись, критики и актеры отказывались видеть в Бернарде Шоу драматурга божьей милостью.
«Я пишу пьесы, потому что мне это нравится и еще потому, что не помню в своей жизни такого периода, когда бы я не придумывал людей и положения. Рассказчик я неважный, мысли сразу воплощаются у меня в сцены, в диалоги, в действие, в некие сгустки времени, развитие которых зависит уже от степени их внутреннего заряда».
Англия XIX века истово верила в то, что называлось тогда «хорошо сделанной пьесой». В такой пьесе содержание выкладывалось постепенно: только к концу второго действия зрители до конца уясняли «ситуацию», а в третьем, последнем, поднятая на сцене кутерьма улаживалась. Мастером такой «драмы с заводным ключиком» был во Франции Скриб (подготовивший появление Сарду), в Англии — Пинеро. Шоу претендовал на звание классического драматурга и посему повернул вспять, к «натуралистической» драме Шекспира: характеры и положения развиваются у него в зависимости «от степени их внутреннего заряда». Однако, следуя уже Ибсену, а не Шекспиру, он проявлял сугубый интерес к воздействию на героев экономических, политических и религиозных институтов, находя здесь богатые возможности для выявления драматических положений и конфликтов.
Первую его пьесу критика обозвала «памфлетом»: вот, мол, сочинение бесталанного чудака-фабианца. Над этой оценкой потом посмеются, доказывая при этом, что пьесы Шоу — все же не пьесы. А он подольет масла в огонь, называя свои пьесы «дискуссиями», «беседами» и тому подобное. Касательно драматургической техники Шоу забыл и думать про «хорошо сделанные пьесы» и отправился назад — к родоначальникам драматургии: «У Мольера и у меня — одна техника, — говорил он, — техника балагана, где зазывала с клоуном перемывают косточки всему, что было за день».
Сейчас невозможно даже представить, что чувствовали тогда его критики. Ведь большинство из них впервые увидели пьесу, где за персонажами значились профессия, религиозные и политические убеждения, где не только полиция или бракоразводный процесс тревожили героев.
Еще в дни своих занятий в Британском музее Уильям Арчер и Бернард Шоу частенько толковали о драме, и где-то в 1885 году Шоу доверительно поведал Арчеру, что, хотя композиция ему не дается, в искусстве диалога он просто гений. Арчер, в свою очередь, признался, что в диалоге он не силен, зато о композиции знает все решительно. Видит бог, им надо объединяться. Арчер придумает отличный сюжет, Шоу сочинит превосходный диалог — и успех в кармане.
Сколько есть на свете хороших сюжетов!.. Так зачем голову ломать, придумывать новый? Арчер взял, что ему требовалось, из ранней пьесы Эмиля Ожье[90], причесал «под Париж», ввел комическую героиню, серьезную героиню, благородного героя, обозначил местом действия в первом акте сад гостиницы на Рейне и передал свой сценарий Шоу.
Прошло несколько недель. Арчер решил, что Шоу забыл о пьесе, и напоминать не стал, тем более что Шоу, очевидно, был занят кропотливым исследованием. Арчер видел, как каждый день в музее его друг «старательно исписывает аккуратной скорописью страницу за страницей с примеркой скоростью три слова в минуту». Проходит полтора месяца, и Шоу ошеломляет Арчера словами: «Слушайте, я накатал первый акт нашей пьесы, а до сюжета все не доберусь. Честно говоря, я его позабыл. Расскажите-ка мне еще раз».
Арчер подавил свою тревогу и детально пересказал сюжет. Шоу тепло поблагодарил и через три дня докладывал: «Написал три страницы второго акта и исчерпал весь сюжет. Давайте еще чего-нибудь!»
Арчер строго напомнил, что сюжет — органическое целое и вносить добавления все равно, что приставлять руки и ноги к статуе, у которой уже есть все необходимые конечности. Шоу пытался его переубедить и предложил, после того как кончит второй акт, прослушать, что получилось. Арчер согласился и в назначенный день озадаченно выслушал первый акт, а на втором заснул. Проснувшись, он объявил Шоу все, что он о нем думает, и расторг соавторство.
Приятель-драматург Генри Артур Джонс успокаивал Шоу: «Сон — это тоже критика», но сам устоял и не заснул, когда Шоу читал ему незаконченную пьесу, — все надеялся, что будет «волнительное», и по окончании спросил: «А где же убийство?» Шоу заключил, что взялся не за свое дело, швырнул незавершенный труд в груду отвергнутых рукописей и забыл о пьесе.
Миновало семь лет. Датчанин Джейкоб Томас Грейн основал Независимый театр и произвел сенсацию постановкой «Привидений» Ибсена, вызвавшей у большинства английских критиков резкие обвинения в непристойности. Независимый театр ставил своей целью поддержать «новую драму», которая, по заверениям Шоу, уже народилась. Грейн долго и безуспешно искал в английской драме новейших явлений. «Спокойно смотреть на это было невтерпеж, — писал Шоу, — и я очертя голову бросился выручать положение: пусть хоть провал, но Грейн получит искомое».
Так были извлечены из забвения два акта, написанные в 1885 году. Шоу дописал третий, назвал пьесу «Дома вдовца» и отослал Грейну, который назначил ее премьеру на 9 декабря 1892 года в помещении театра «Роялти».
Исчезли сентиментальные герои и сюжет-стереотип. Серьезная и комическая героини слились в одну, ни на ту, ни на другую не похожую. Пьеса стала трагикомедией «трущобовладения». В обрисовке привлекательных качеств своей героини Бланш Шоу взял за образец Флоренс Фарр, исполнительницу этой роли, а менее симпатичные черты заимствовал у женщины, которую как-то встретил на улице:
«Однажды в полночь я возвращался домой по Уигмор-стрит и, пользуясь тишиной и безлюдием, размышлял, подобно Канту. Над головой стояло звездное небо. Внезапно тишину разорвали голоса двух молодых дам, вынырнувших на противоположную сторону улицы из Мандевиль-Плейс примерно в двухстах ярдах впереди меня.
Крупная дама вся кипела от гнева, а спутница делала слабые попытки ее успокоить. Лающий строгий голос обрывал скулящий и протестующий, и так продолжалось некоторое время — до кульминации. Разъяренная женщина с кулаками набросилась на свою товарку, вцепилась ей в волосы, схватила за горло. Очевидно привыкшая к такому обращению, жертва съежилась у перил, заслоняясь от ударов, выкрикивая мольбы и увещевания приглушенным голосом: полицейского заступничества она боялась еще больше, чем этой расправы. Вскоре буря улеглась, и женщины пошли своим путем дальше. Львица сохраняла спокойствие, а овечка осмелела после несправедливой обиды и шла олицетворенным упреком. Сцена врезалась мне в память, и я приберег ее для подходящего случая».