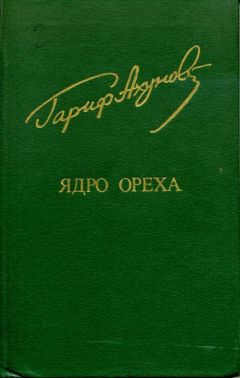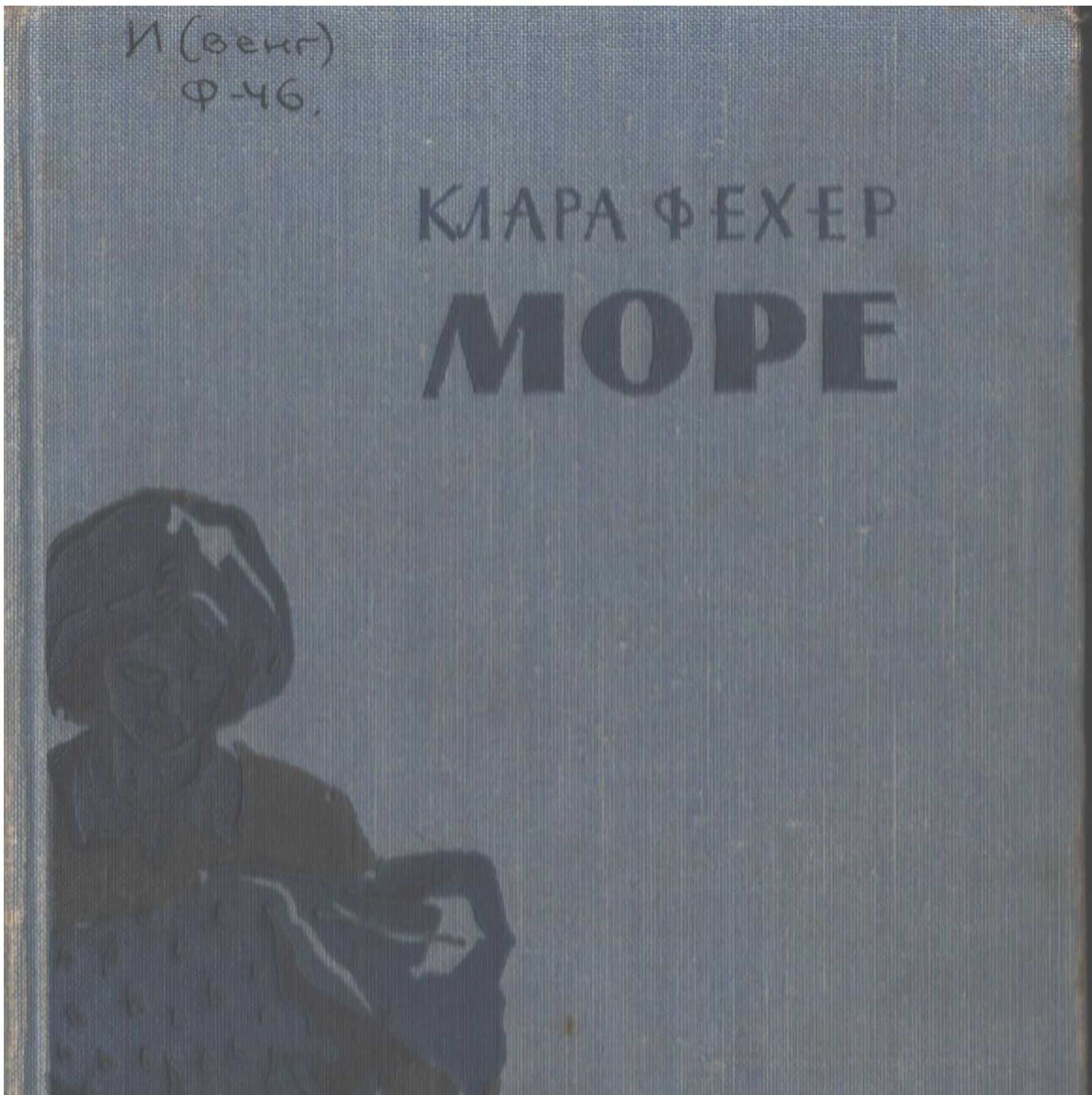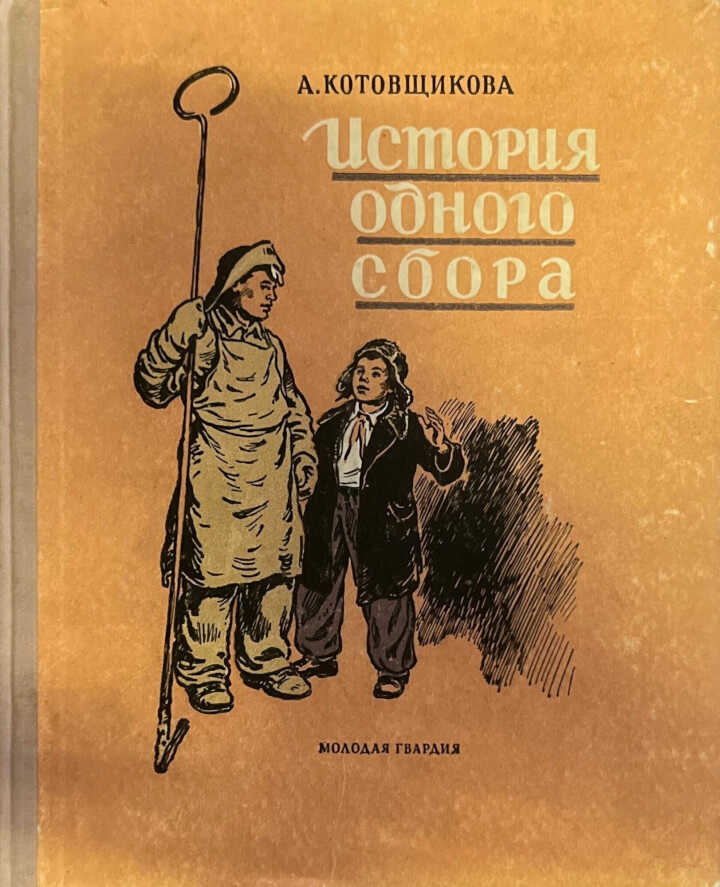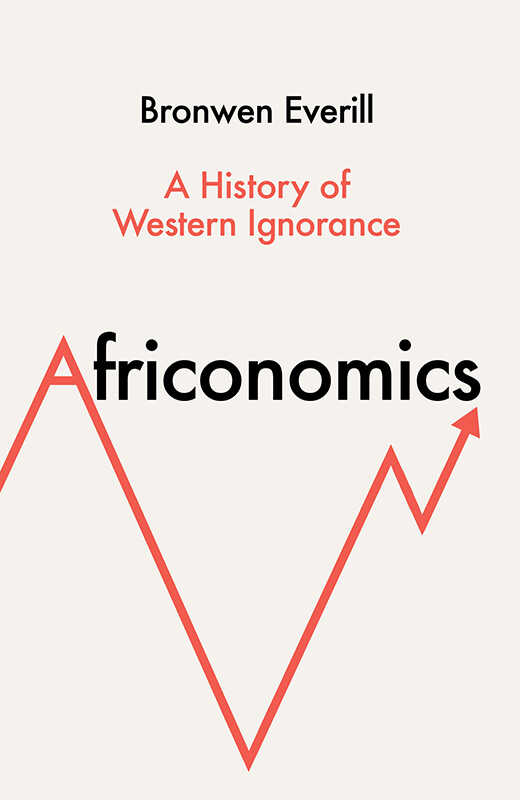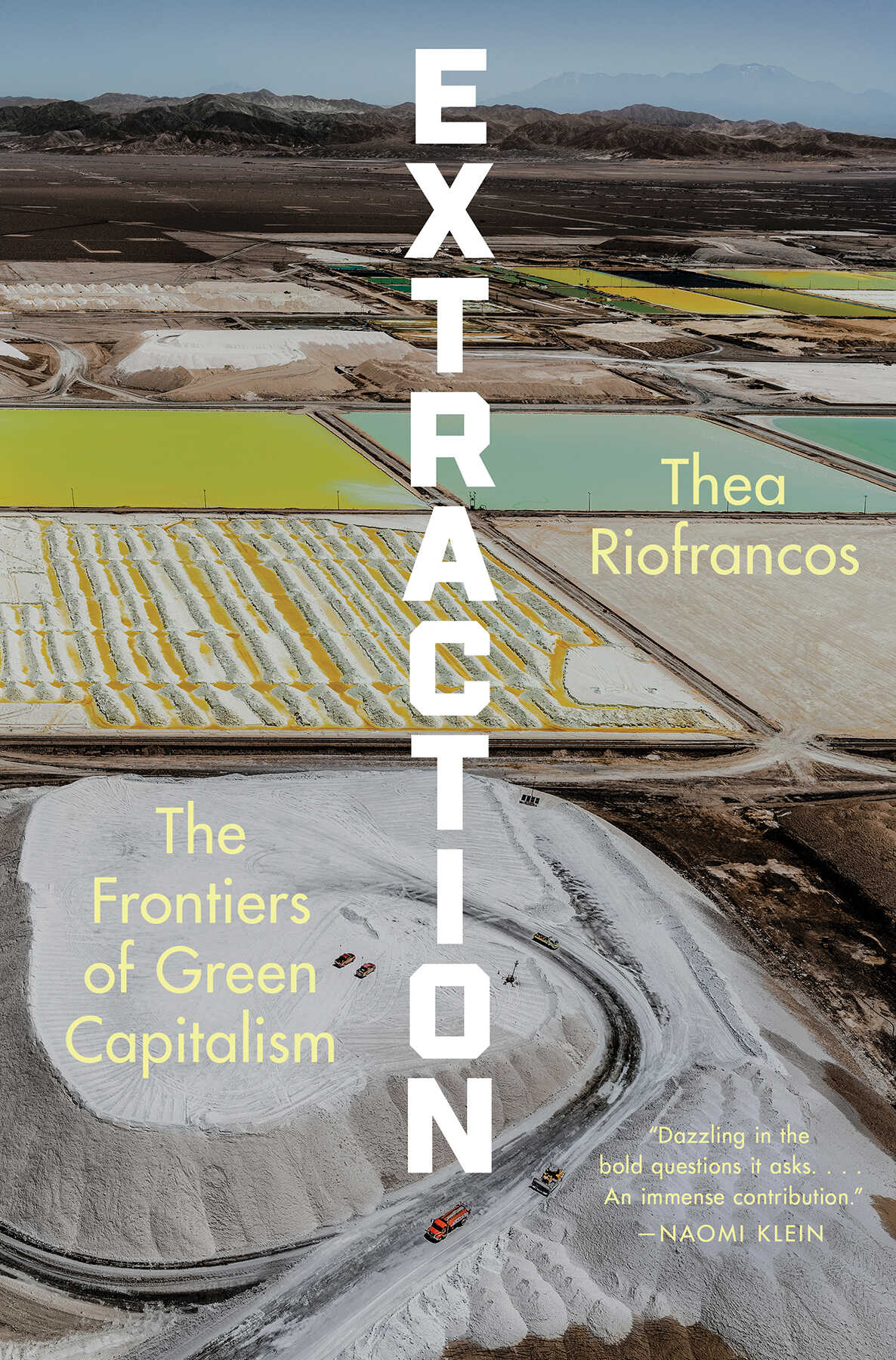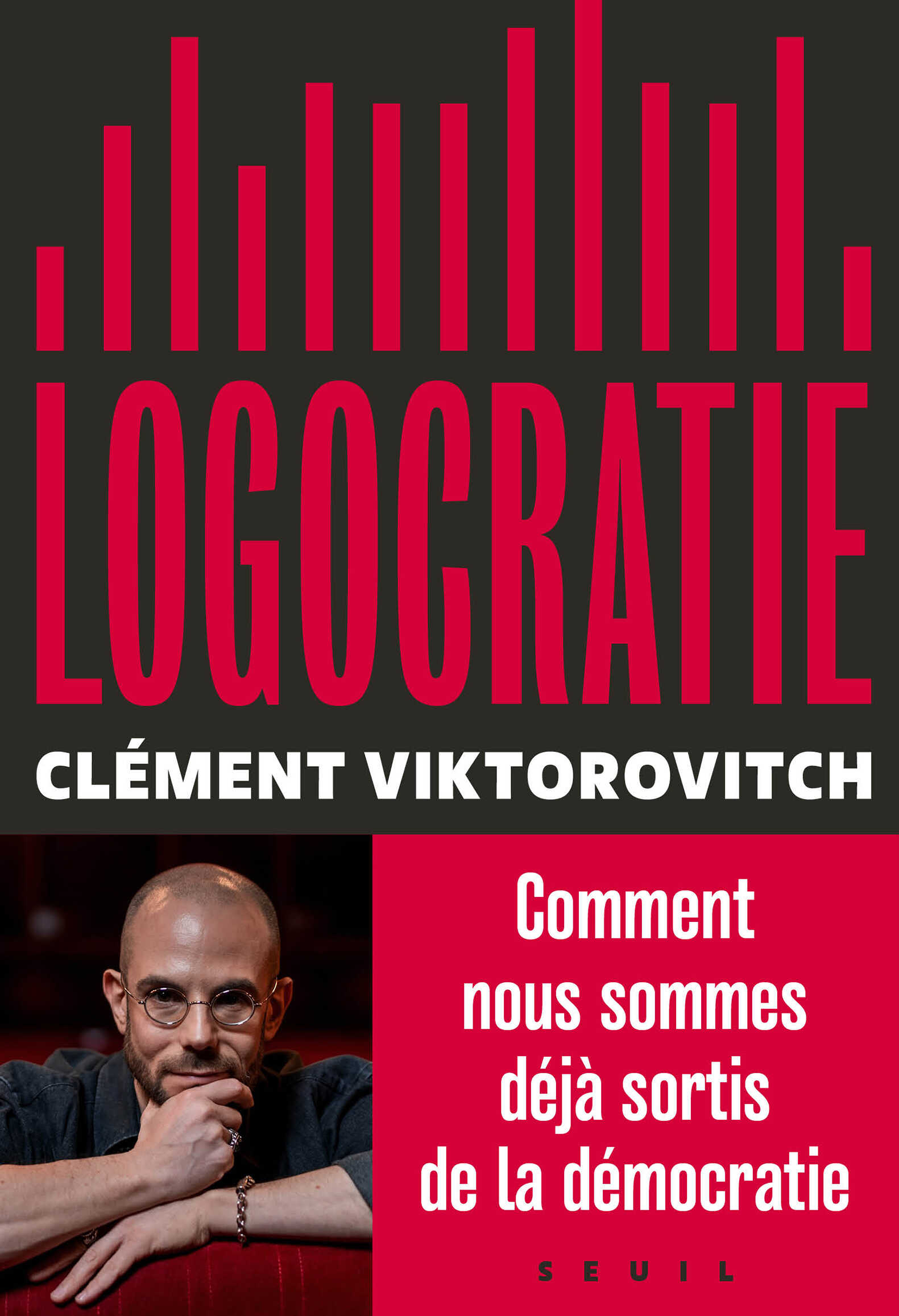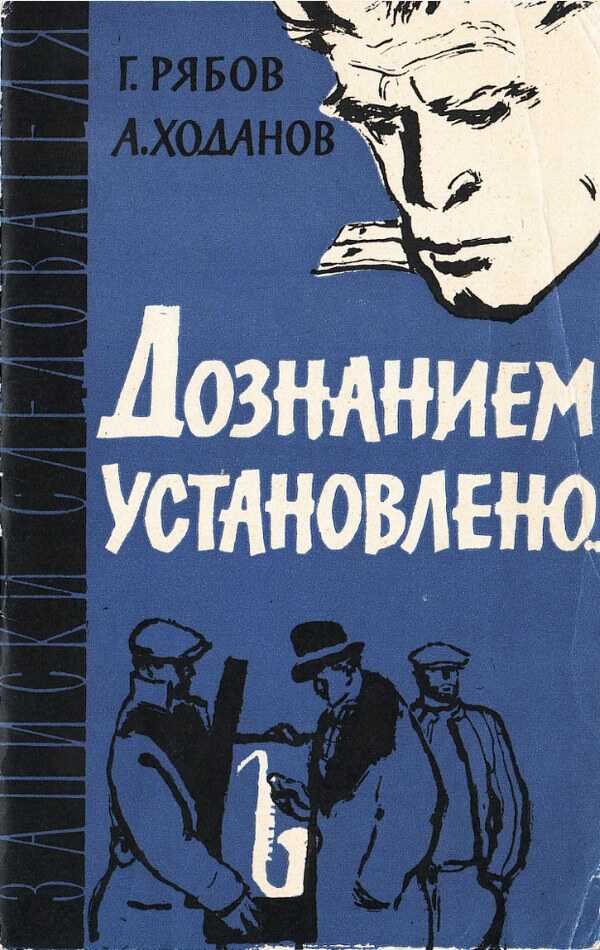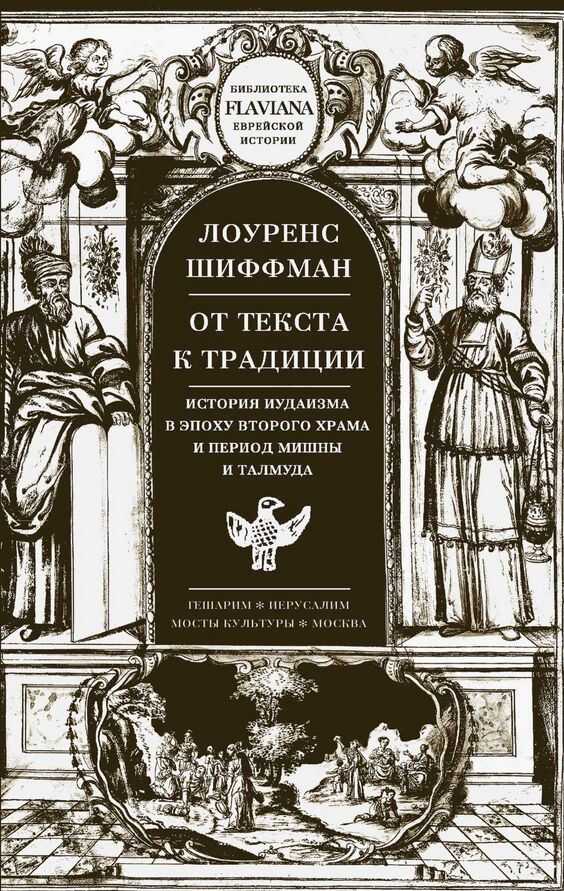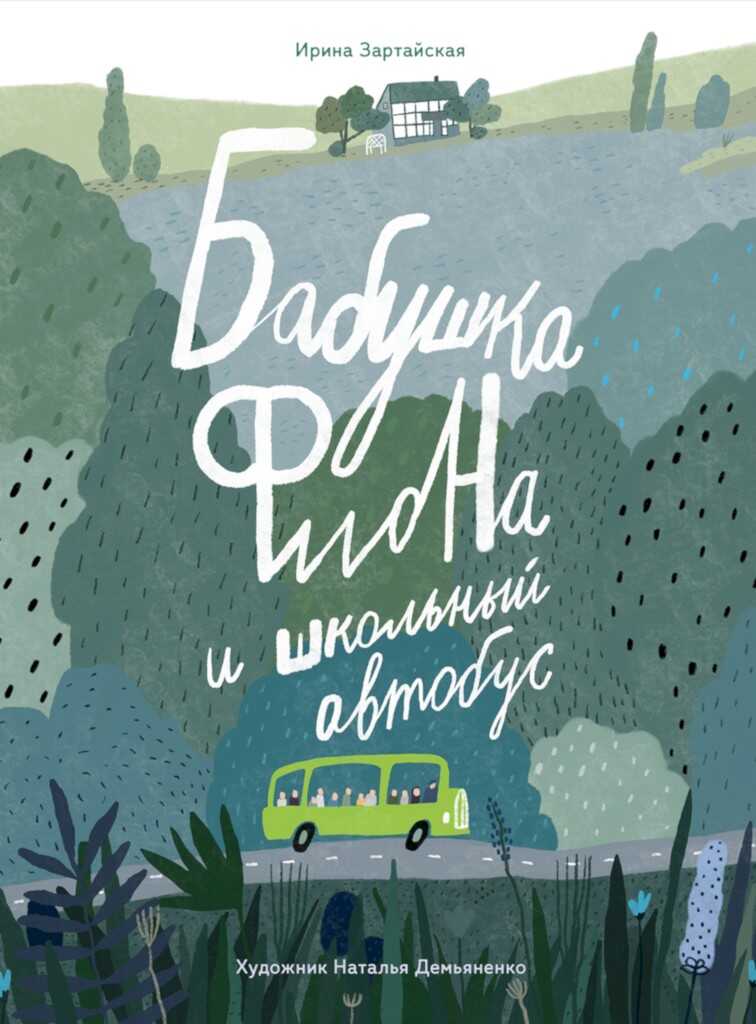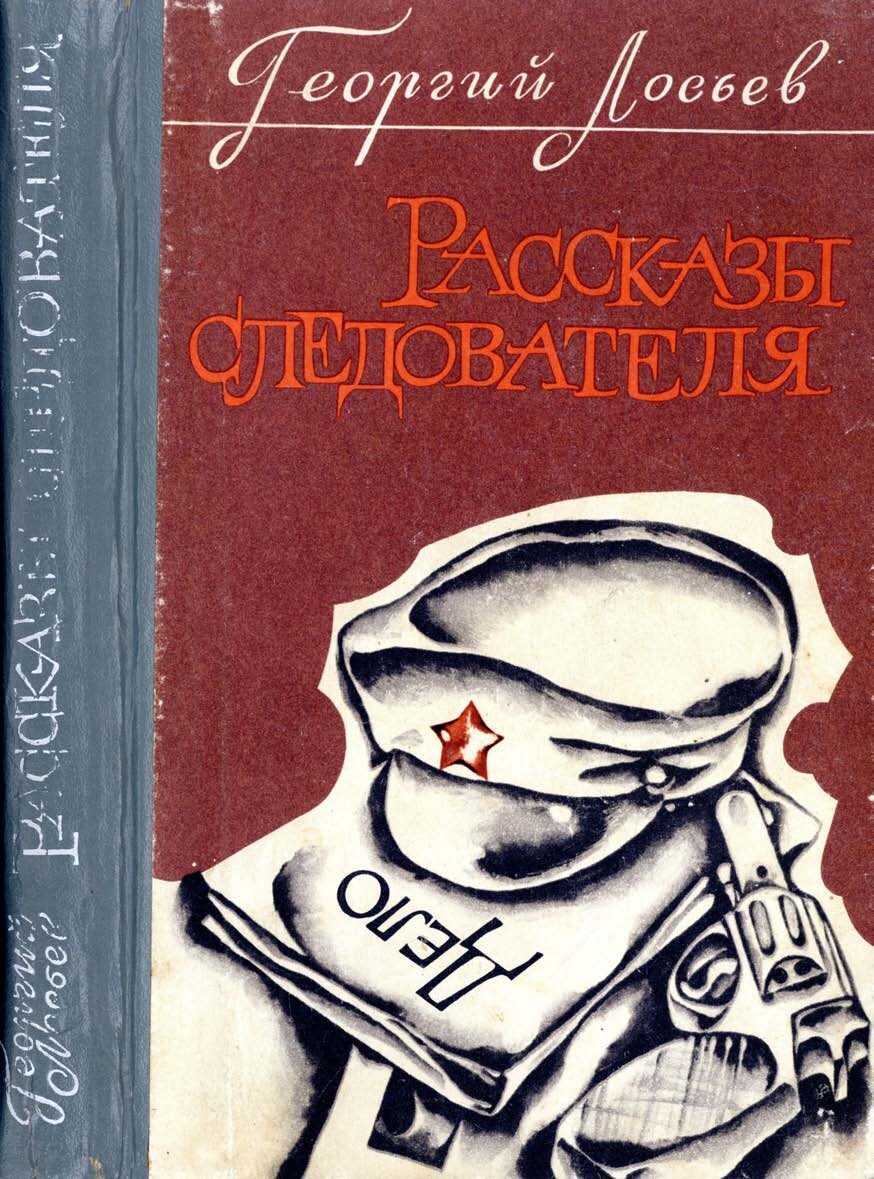Свобода, которую он выбирает, — это крайняя, волчья свобода, это тайга, по которой, озираясь, бегут они, три уголовника.
Свобода — это побег «с быком», когда двое подбивают на побег третьего, чтобы убить его и съесть в тайге… А потом и эти двое передерутся. И тот, кто устанет меньше, уйдет один. Ты ж выбрал «свободу» — получай ее. Не хотел жить по-овечьи? Умирай по-волчьи.
Максимов все доводит до предела. Никаких сказочек, никаких иллюзий. Ни «синей птицы», ни «алых парусов». Жестокая правда. Уж если Э. Радзинский говорил своему непокорному герою: тебя когда-нибудь жизнь стукнет, то у Максимова этот мотив приобретает отнюдь не символический, а вполне материальный смысл: героя просто «шлепнут» по известному указу о побеге, он знает, что ему за побег — «вышка», и не «когда-нибудь», а как только поймают.
То есть: с житейской точки зрения все абсурдно — побег и все из него вытекающее. Предпринимая действие, человек у Максимова вообще нигде не достигает внешней цели. Но постигает что-то большее. Внешне рассуждая, абсурдно вообще все, что происходит в пьесе: лечат, спасают, поднимают на ноги неизвестного человека, а когда его вылечат, то выяснится, что он преступник и его надо расстрелять… И в течение трех часов спектакля, глядя на это обреченное спасение, терзаешься одним вопросом: а если бы эти люди — эти сельские медики, старуха Силовна, добрейшая Сима — если бы они знали, что обмороженное тело, которое они мучительно возвращают к жизни, потом по закону надо будет пробить пулей, — если бы они это знали, стали бы они спасать человека?
Ведь это — вопрос вопросов…
Так вот. Стали бы! Зачем? Низачем? Но ведь абсурд? Да, абсурд, с точки зрения абстрактной логики. И все равно стали бы спасать! Потому что добро — не потому добро, что так выгодно, а потому, что оно добро… И эта великая «абсурдная» спасительная сила добра и сострадания, эта сила любви, не спрашивающая: зачем? и есть та сила, перед которой должна стать на колени сама «свобода». Сергей грубит людям, которые спасают его на больничной койке. А они пропускают это мимо ушей и кормят его. Он кричит: я вас не просил спасать меня! А они спасают и сами гибнут при этом. Он кричит: не хочу! А они говорят: жизни нельзя говорить «не хочу», у тебя нет выбора, и у нас нет выбора. Мы спасаем тебе жизнь, потому что мы люди и потому что ты человек.
И тут сдается Сергей Царев. Тогда, в тайге, когда надо было убить того, третьего, обреченного, Сергей не мог его кончить; у него хватило сил уйти от людей, но не хватило сил пойти до конца и начать убивать людей. Восстав против добра, порабощающего его достоинство, герой Максимова оказался беззащитен перед добром, которое ему делают безвозмездно… И тогда он встал на колени перед людьми, спасшими его.
У него не было иного морального выхода.
Может быть, самое потрясающее в спектакле А. Гончарова — финал. Вышел человек на люди, на середину сцены, да и упал на колени — под музыкальный аккорд, как под благовест колокольный. «Смирись, гордый человек» — отозвалось во мне болью, горечью и просветлением, да, и просветлением! Видели мы, как ставят на колени человека под свадебные, крики, под дешевый туш — втаптывают его в землю и шепчут: будь счастлив, будь счастлив… Нет уж, лучше последняя правда, и пусть уж кошка называется кошкой. В тот момент, когда упал на колени максимовский герой, распрямилась душа его, и, в сущности, он встал с колен, потому что все было сказано и лжи больше не осталось, одна правда, и оджна цель — та, недостижимая, как сказал поэт.
Максимов нигде не подпирает конфликт извне, но духовная драма его героя сама ломает не только интерьеры быта, но и неприкосновенные нимбы душевности, — тут не быт и не душевность надо играть, но духовное состояние, истерику духа, возникающую в фантастическом и кошмарном раздумье.
Без людей — гибель.
«Помни, у тебя нет выбора: ты должен быть человеком».
Нет выбора — вот тональность пьесы Максимова. Он не знает середины, не знает меры. И добро и зло он доводит до последней грани, до крайности, до безвыходности.
В этом смысле пьеса Максимова, конечно, сомнительное «руководство к действию». Ибо в жизни, как мы знаем, нужна именно мера, и каждый человек, каждый день, в каждом случае заново ищет эту меру по совести.
Но чтобы в жизни человек решал по совести, чтобы в жизни мера была подлинно человечной, чтобы мудрость жизни не превращалась в премудрость пескаря, а свобода не оборачивалась оголтелостью и одиночеством, — конечный смысл слов должен храниться в чистоте.
Одним словом, чтобы была соразмерность и справедливость в жизни, для этого нужна в искусстве исступленная честность Максимова. Последняя правда — вот то спасительное бремя, которое делает искусство человечным, а человека — естественным. Бремя правды — единственное бремя, которое надо нести до любого конца.
Тогда будет все: и в компромиссах разумность и в людях достоинство.
…И споры в фойе. И очищение в душах. И аншлаги, аншлаги, аншлаги.
А мы, критики, будем торжественно объявлять всем на своем несравненном языке: драматургия не отстает, драматургия выполняет задачи; драматургия идет вровень с требованиями времени…
Примечание 2000.
Даже и в 1965 году я не в силах освободиться от издевательской игры в «обязанности критика», хотя эта игра уже совершенно смешна в контексте того нового поворота, который обозначился в реальности. Пересмотр ценностей, с которыми в начале десятилетия вошли в литературу «шестидесятники», виден здесь без комментариев: «бесцельность этой цели», «недостижимость главной, той…» В одном только случае мне захотелось из позднейших времен «подсказать» себе, тогдашнему, в 1965 год: это когда круговая порука подлости в пьесе «Гусиное перо» оказалась выведена не из ошибок и злой воли «отрицательных героев», а из фронта «положительности», от веку числившейся за детьми — посланцами из будущего. О, если б я тогда увидел хотя бы фильм «Чучело»… но до него надо было еще жить 20 лет.
Словно древние книжники, боявшиеся называть бога по имени, мы употребляли слово «нечто». Шесть-семь лет назад в нашей критике это самое «нечто» ходило, как денежный знак. Б. Сарнов высмеивал шумных молодых поэтов, потому что у них отсутствовало «нечто выношенное», «нечто свое». Никому не приходило в голову спросить, что же это за нечто такое, впрочем, те из нас, кому это и приходило в голову, ничего не могли предложить взамен, кроме «чего-то» выстраданного, «каких-то» душевных ценностей, — одним словом, получалось все то же самое нечто. Слова отражают состояние умов; мне кажется, что во времена, когда велись эти споры, вряд ли мы и вынесли бы всю тяжесть проблем духовного мира: литература перевооружалась, перестраивалась, переодевалась писатели бросались к новым темам и конфликтам, герои осваивали новые брюки («шестнадцать сантиметров! три сантиметра!»), новые вкусы («он не любил Герасимова, он любил Пикассо»), новые слова и мелодии («хватит с нас и гитары»), — в этом увлекательном перестраивании человек куда острее ощущал внешний контур своего мира, систему реакций и связей, оформление ценностей, нежели сами ценности и их внутренние истоки. Не до того было: чтобы в разгар великого перевооружения отделять действительную искренность от маскарада, достаточно двух знаков: у этих «нечто свое» есть, а у тех «нечто свое» отсутствует. Все уж вроде давно успокоились. Чего хотели — добились. Расширили кругозор, диапазон, тематику. Повесили на стенку портрет Эйнштейна. Повесили Пикассо и Феофана Грека. Повесили гитару, не опасаясь, что это мещанство. Перестроились. Теперь у нас у всех за душой есть «нечто».
Не пора ли, однако, начать раскрывать скобки? Нравственный мир человека — это ведь не просто факт присутствия в человеке начала, вообще противоположного мертвой вещи или, скажем, темной животности, это не просто нечто противостоящее автоматизму или биологизму. Духовный мир предполагает сложнейшую систему взаимозависимых категорий и положительных ценностей. Об этом мы и побеседуем ниже. Хочу только оговорить следующее: духовное сознание связано (для меня) с личностным началом. Не личным, подчеркиваю, то есть не частным, отдельным, данным, эмпирически ощутимым. А именно личностным, то есть таким, при котором личность мыслится мерой мира, его содержательной, духовной пробой, причем личность выступает не как обратная сторона «общности», а как первоэлемент и критерий ее человеческого смысла. Вне личностного начала я не ощущаю нравственной реальности. И не умею этого доказать. Это аксиома. Я просто остолбенел, прочтя в девятой книжке «Молодой гвардии» за прошлый, 1967 год следующий пассаж критика Павла Глинкина:
«В начале минувшего десятилетия мы стали свидетелями процессов, которые не могли не вызвать серьезного и оправданного беспокойства за судьбы молодой нашей литературы. «Лидеры» «четвертого поколения» выдвинули на первый план «личностное», «исповедальное» начало».