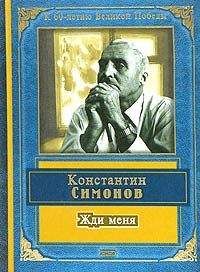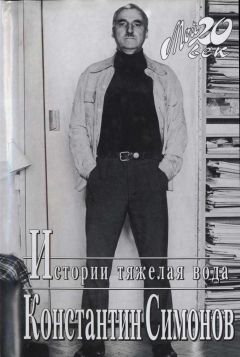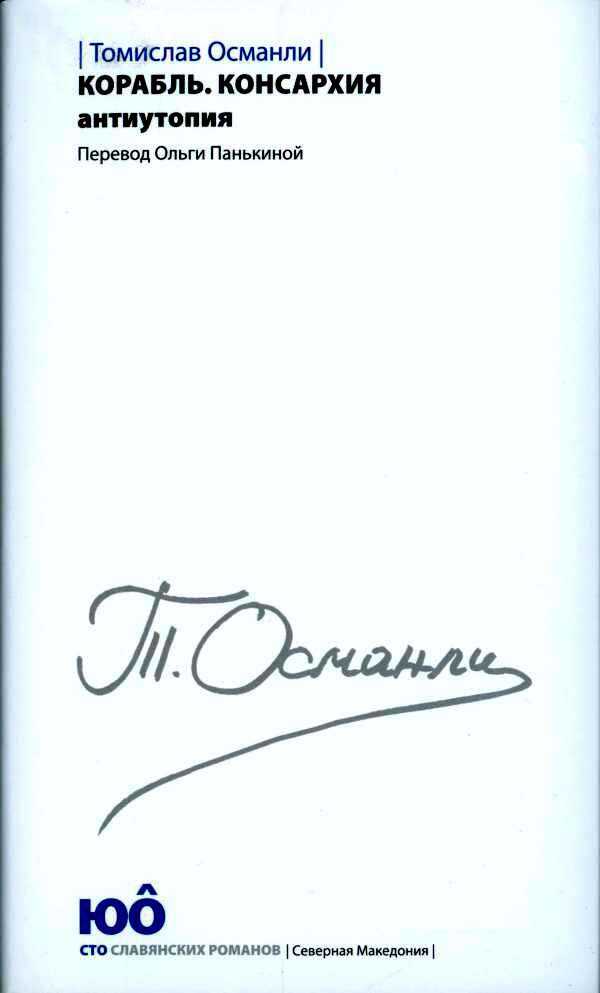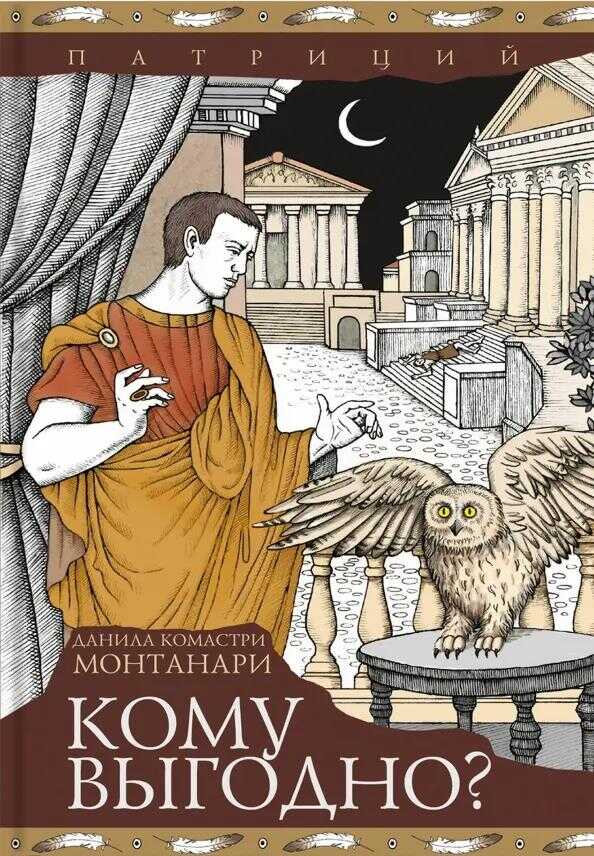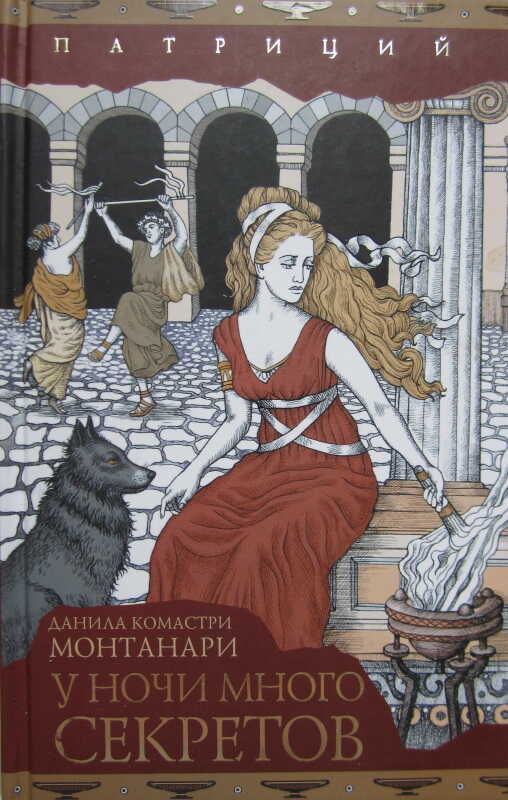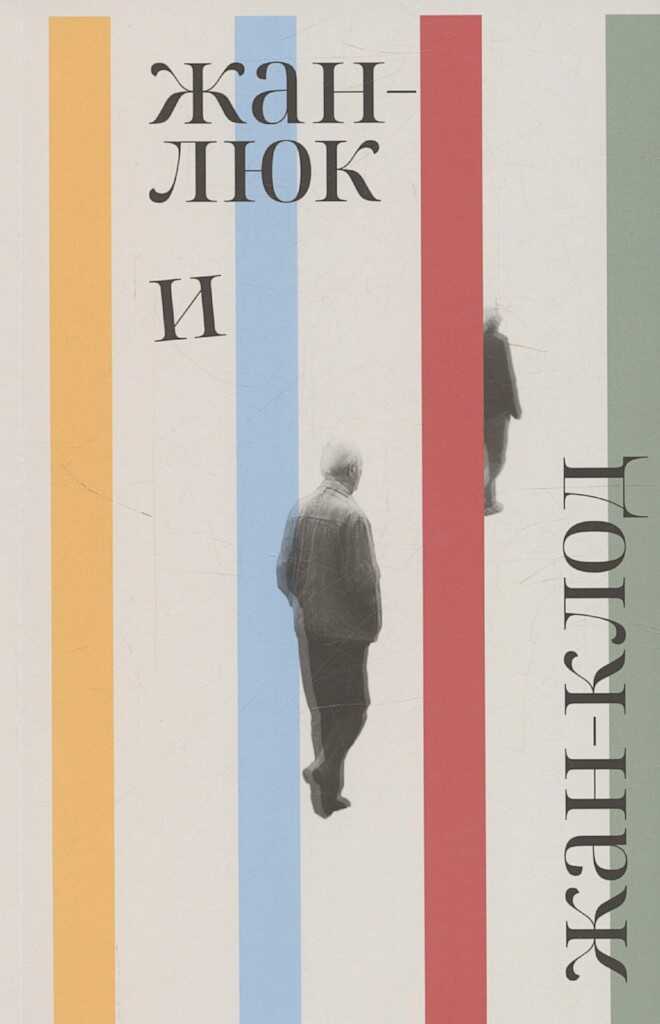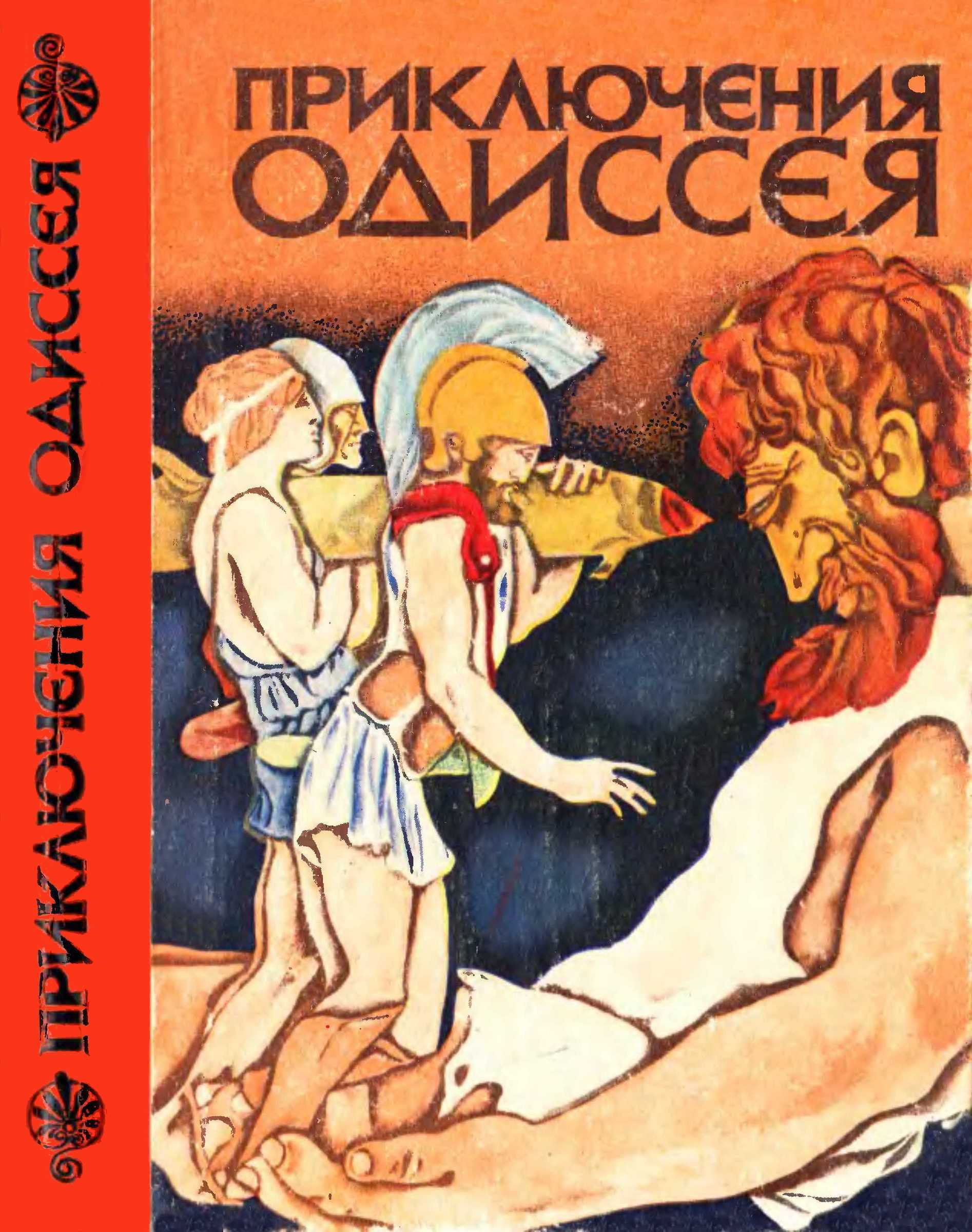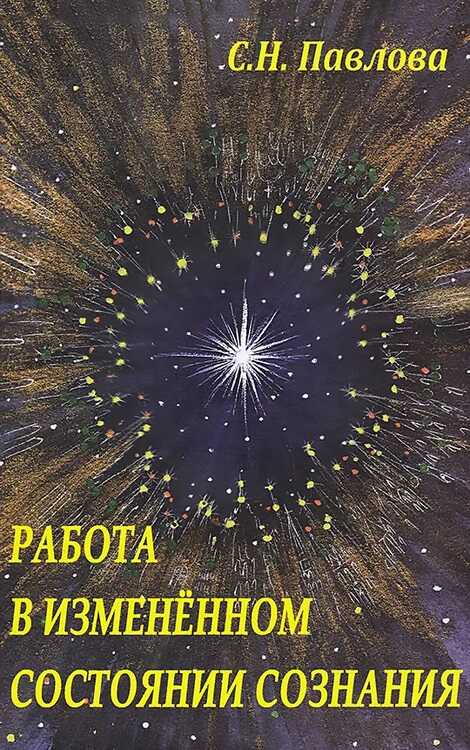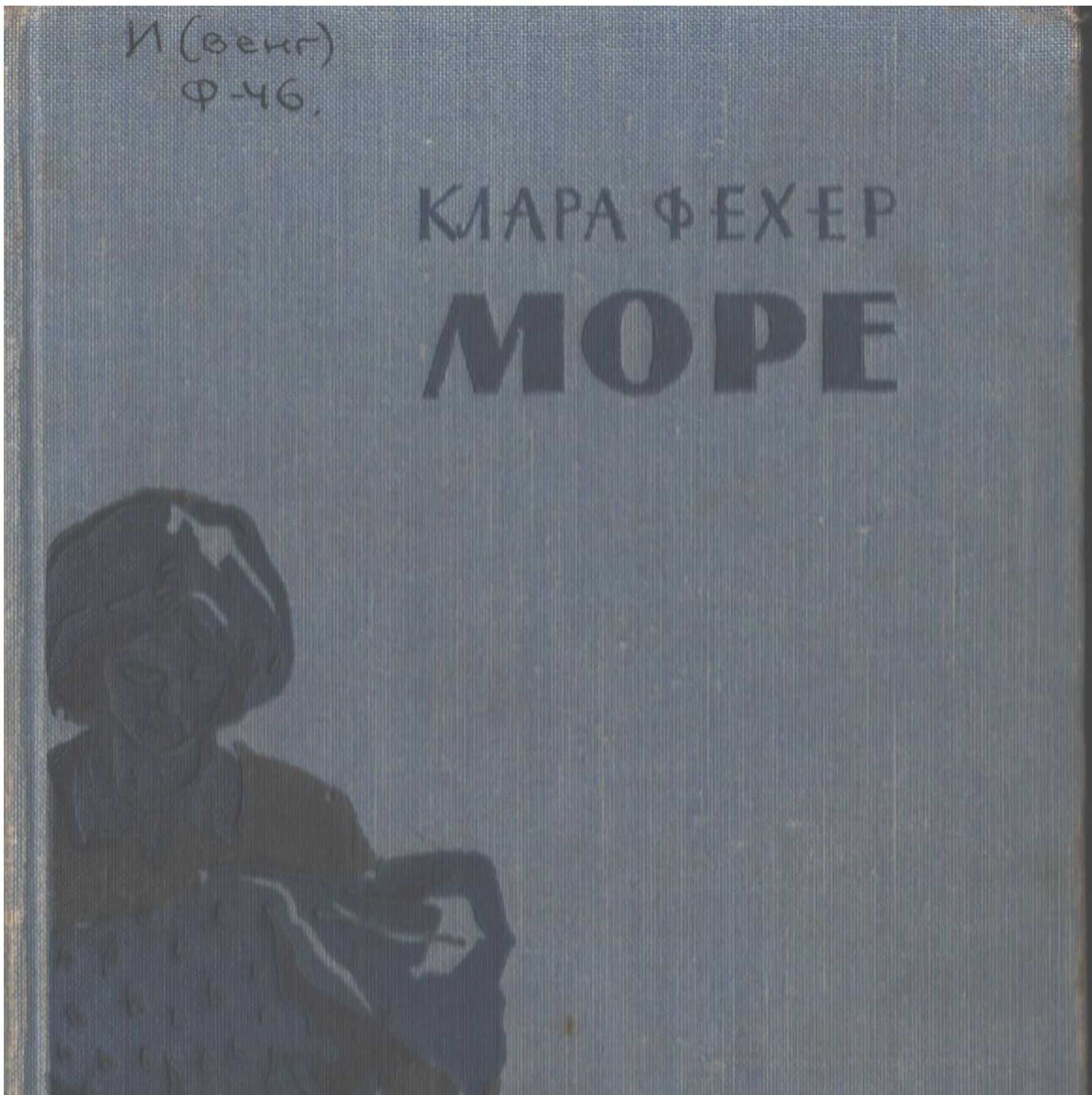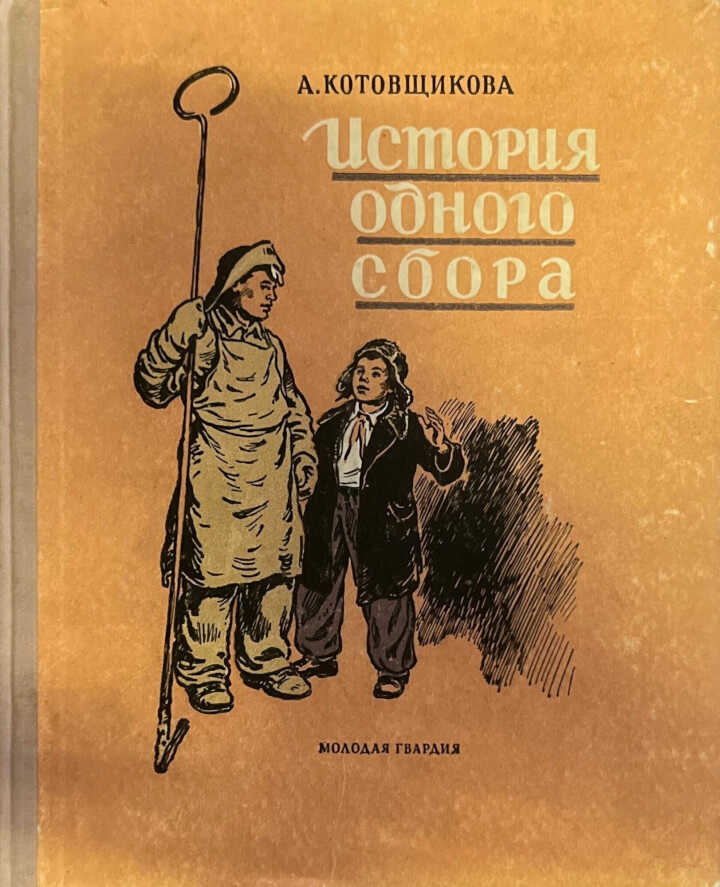Ознакомительная версия. Доступно 4 страниц из 24
Летаргия
В детстве быль мне бабка рассказала
Об ожившей девушке в гробу,
Как она металась и рыдала,
Проклиная страшную судьбу,
Как, услышав неземные звуки,
Сняв с усопшей тяжкий гнет земли,
Выраженье небывалой муки
Люди на лице ее прочли.
И в жару, подняв глаза сухие,
Мать свою я трепетно просил,
Чтоб меня, спася от летаргии,
Двадцать дней никто не хоронил.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мы любовь свою сгубили сами,
При смерти она, из ночи в ночь
Просит пересохшими губами
Ей помочь. А чем нам ей помочь?
Завтра отлетит от губ дыханье,
А потом, осенним мокрым днем,
Горсть земли ей бросив на прощанье,
Крест на ней поставим и уйдем.
Ну, а вдруг она, не как другие,
Нас навеки бросить не смогла,
Вдруг ее не смерть, а летаргия
В мертвый мир обманом увела?
Мы уже готовим оправданья,
Суетные круглые слова,
А она еще в жару страданья
Что-то шепчет нам, полужива.
Слушай же ее, пока не поздно,
Слышишь ты, как хочет она жить,
Как нас молит – трепетно и грозно —
Двадцать дней ее не хоронить!
Я жил над школой музыкальной,
По коридорам, подо мной,
То скрипки плавно и печально,
Как рыбы, плыли под водой,
То, словно утром непогожим
Дождь, ударявший в желоба,
Вопила все одно и то же,
Одно и то же все – труба.
Потом играли на рояле:
До-си! Си-до! Туда-сюда!
Как будто чью-то выбивали
Из тела душу навсегда.
Когда изобразить я в пьесе захочу
Тоску, которая, к несчастью, не подвластна
Ни нашему армейскому врачу,
Ни женщине, что нас лечить согласна,
Ни даже той, что вдалеке от нас,
Казалось бы, понять и прилететь могла бы,
Ту самую тоску, что третий день сейчас
Так властно на меня накладывает лапы, —
Моя ремарка будет коротка:
Семь нот эпиграфом поставивши вначале,
Я просто напишу: «Тоска,
Внизу играют на рояле».
Три дня живу в пустом немецком доме,
Пишу статью, как будто воз везу,
И нету никого со мною, кроме
Моей тоски да музыки внизу.
Идут дожди. Затишье. Где-то там
Раз в день лениво вспыхнет канонада.
Шофер за мною ходит по пятам:
– Машина не нужна? – Пока не надо.
Шофер скучает тоже. Там, внизу,
Он на рояль накладывает руки
И выжимает каждый день слезу
Одной и той же песенкой – разлуки.
Он предлагал, по дружбе, – перестать:
– Раз грусть берет, так в пол бы постучали...
Но эта песня мне сейчас под стать
Своей жестокой простотой печали.
Уж, видно, так родились мы на свет,
Берет за сердце самое простое.
Для человека – университет
В минуты эти ничего не стоит.
Он слушает расстроенный рояль
И пение попутчика-солдата.
Ему себя до слез, ужасно жаль.
И кажется, что счастлив был когда-то.
И кажется ему, что он умрет,
Что все, как в песне, непременно будет,
И пуля прямо в сердце попадет,
И верная жена его забудет.
Нет, я не попрошу здесь: «Замолчи!»
Здесь власть твоя. Услышь из страшной дали
И там сама тихонько постучи,
Чтоб здесь играть мне песню перестали.
Над сном монастыря девичьего
Все тихо на сто верст окрест.
На высоте полета птичьего
Над крышей порыжелый крест.
Монашки ходят, в домотканое
Одетые, как век назад,
А мне опять, как окаянному,
Спешить куда глаза глядят.
С заиндевевшими шоферами
Мне к ночи где-то надо быть,
Кого-то мучить разговорами,
В землянке с кем-то водку пить.
Как я бы рад, сказать по совести,
Вдруг ни к кому и никогда,
Вдруг, как в старинной скучной повести,
Жить как стоячая вода.
Описывать чужие горести,
Мечтать, глядеть тебе в глаза.
Нельзя, как в дождь на третьей скорости
Нельзя нажать на тормоза.
Да, мы живем, не забывая,
Что просто не пришел черед,
Что смерть, как чаша круговая,
Наш стол обходит круглый год.
Не потому тебя прощаю,
Что не умею помнить зла,
А потому, что круговая
Ко мне все ближе вдоль стола.
Мы оба с тобою из племени,
Где если дружить – так дружить,
Где смело прошедшего времени
Не терпят в глаголе «любить».
Так лучше представь меня мертвого,
Такого, чтоб вспомнить добром,
Не осенью сорок четвертого,
А где-нибудь в сорок втором.
Где мужество я обнаруживал,
Где строго, как юноша, жил,
Где, верно, любви я заслуживал
И все-таки не заслужил.
Представь себе Север, метельную
Полярную ночь на снегу,
Представь себе рану смертельную
И то, что я встать не могу;
Представь себе это известие
В то трудное время мое,
Когда еще дальше предместия
Не занял я сердце твое,
Когда за горами, за долами
Жила ты, другого любя,
Когда из огня да и в полымя
Меж нами бросало тебя.
Давай с тобой так и условимся:
Тогдашний – я умер. Бог с ним.
А с нынешним мной – остановимся
И заново поговорим.
В чужой земле и в городе чужом
Мы наконец живем почти вдвоем,
Без званых и непрошеных гостей,
Без телефона, писем и друзей,
Нам с глазу на глаз можно день прожить,
И, слава богу, некому звонить.
Сороконожкой наша жизнь была,
На сорока ногах она ползла.
Как грустно – так куда-нибудь звонок,
Как скучно – мигом гости на порог,
Как ссора – невеселый звон вина,
И легче помириться вполпьяна.
В чужой земле и в городе чужом
Мы наконец живем почти вдвоем.
Как на заре своей, сегодня вновь
Беспомощно идет у нас любовь.
Совсем одна от стула до окна,
Как годовалая, идет она.
И смотрим мы, ее отец и мать,
Готовясь за руки ее поймать.
До утра перед разлукой
Свадьба снилась мне твоя.
Паперть... Сон, должно быть, в руку:
Ты – невеста. Нищий – я.
Пусть случится все, как снилось,
Только в жизни обещай —
Выходя, мне, сделай милость,
Милостыни не давай.
Стекло тысячеверстной толщины
Разлука вставила в окно твоей квартиры,
И я смотрю, как из другого мира,
Мне голоса в ней больше не слышны.
Вот ты прошла, присела на окне,
Кому-то улыбнулась, встала снова,
Сказала что-то... Может, обо мне?
А что? Не слышу ничего, ни слова...
Какое невозможное страданье
Опять, уехав, быть глухонемым!
Но что, как вдруг дана лишь в оправданье
На этот раз разлука нам двоим?
Ты помнишь честный вечер объясненья,
Когда, казалось, смеем все сказать...
И вдруг – стекло. И только губ движенье,
И даже стука сердца не слыхать.
Я в эмигрантский дом попал
В сочельник, в рождество.
Меня почти никто не знал,
Я мало знал кого.
Хозяин дома пригласил
Всех, кого мог созвать, —
Советский паспорт должен был
Он завтра получать.
Сам консул был. И, как ковчег,
Трещал японский дом:
Хозяин – русский человек, —
Последний рубль ребром.
Среди рождественских гостей,
Мужчин и старых дам,
Наверно, люди всех мастей
Со мной сидели там:
Тут был игрок, и спекулянт,
И продавец собак,
И просто рваный эмигрант,
Бедняга из бедняг.
Когда вино раз пять сквозь зал
Прошлось вдоль всех столов,
Хозяин очень тихо встал
И так стоял без слов.
В его руке бокал вина
Дрожал. И он дрожал:
– Россия, господа... Она...
До дна!.. – И зарыдал.
И я поверил вдруг ему,
Хотя, в конце концов,
Не знал, кто он и почему
Покинул край отцов.
Где он скитался тридцать лет,
Чем занимался он,
И справедливо или нет
Он был сейчас прощен?
Нет, я поверил не слезам, —
Кто ж не прольет слезы! —
А старым выцветшим глазам,
Где нет уже грозы,
Но, как обрывки облаков,
Грозы последний след,
Иных полей, иных снегов
Вдруг отразился свет;
Прохлада волжского песка,
И долгий крик с баржи,
Неумолимая тоска
По василькам во ржи.
По песне, петой где-то там,
Уже бог весть когда,
А все бредущей по пятам
В Харбин, в Шанхай, сюда.
Так плакать бы, закрыв лицо,
Да не избыть тоски,
Как обручальное кольцо,
Что уж не снять с руки.
Все было дальше, как всегда,
Стук вилок и ножей,
И даже слово «господа»
Не странно для ушей.
И сам хозяин, как ножом
Проткнувший грудь мою,
Стал снова просто стариком,
Всплакнувшим во хмелю.
Еще кругом был пир горой,
Но я сидел в углу,
И шла моя душа босой
По битому стеклу
К той женщине, что я видал
Всегда одну, одну,
К той женщине, что покидал
Я, как беглец страну,
Что недобра была со мной,
Любила ли – бог весть...
Но нету родины второй,
Одна лишь эта есть.
А может, просто судеб суд
Есть меж небес и вод,
И там свои законы чтут
И свой законов свод.
И на судейском том столе
Есть век любить закон
Ту женщину, на чьей земле
Ты для любви рожден.
И все на той земле не так,
То холод, то пурга...
За что ж ты любишь, а, земляк,
Березы да снега?
А в доме открывался бал;
Влетев во все углы,
За вальсом вальс уже скакал,
Цепляясь за столы.
Давно зарывший свой талант,
Наемник за сто иен,
Тапер был старый музыкант —
Комок из вспухших вен.
Ночь напролет сидел я с ним,
Лишь он мне мог помочь,
Твоим видением томим
Я был всю эту ночь.
Был дом чужой, и зал чужой,
Чужой и глупый бал,
А он всю ночь сидел со мной
И о тебе играл.
И, как изгнанник, слушал я,
Упав лицом на стол,
И видел дальние края
И пограничный столб.
И там, за ним, твое лицо
Опять, опять, опять...
Как обручальное кольцо,
Что уж с руки не снять.
Я знаю, ты меня сама
Пыталась удержать,
Но покаянного письма
Мне не с кем передать.
И, все равно, до стран чужих
Твой не дойдет ответ,
Я знаю, консулов твоих
Тут не было и нет.
Но если б ты смогла понять
Отчаянье мое,
Не откажись меня принять
Вновь в подданство твое.
Ознакомительная версия. Доступно 4 страниц из 24