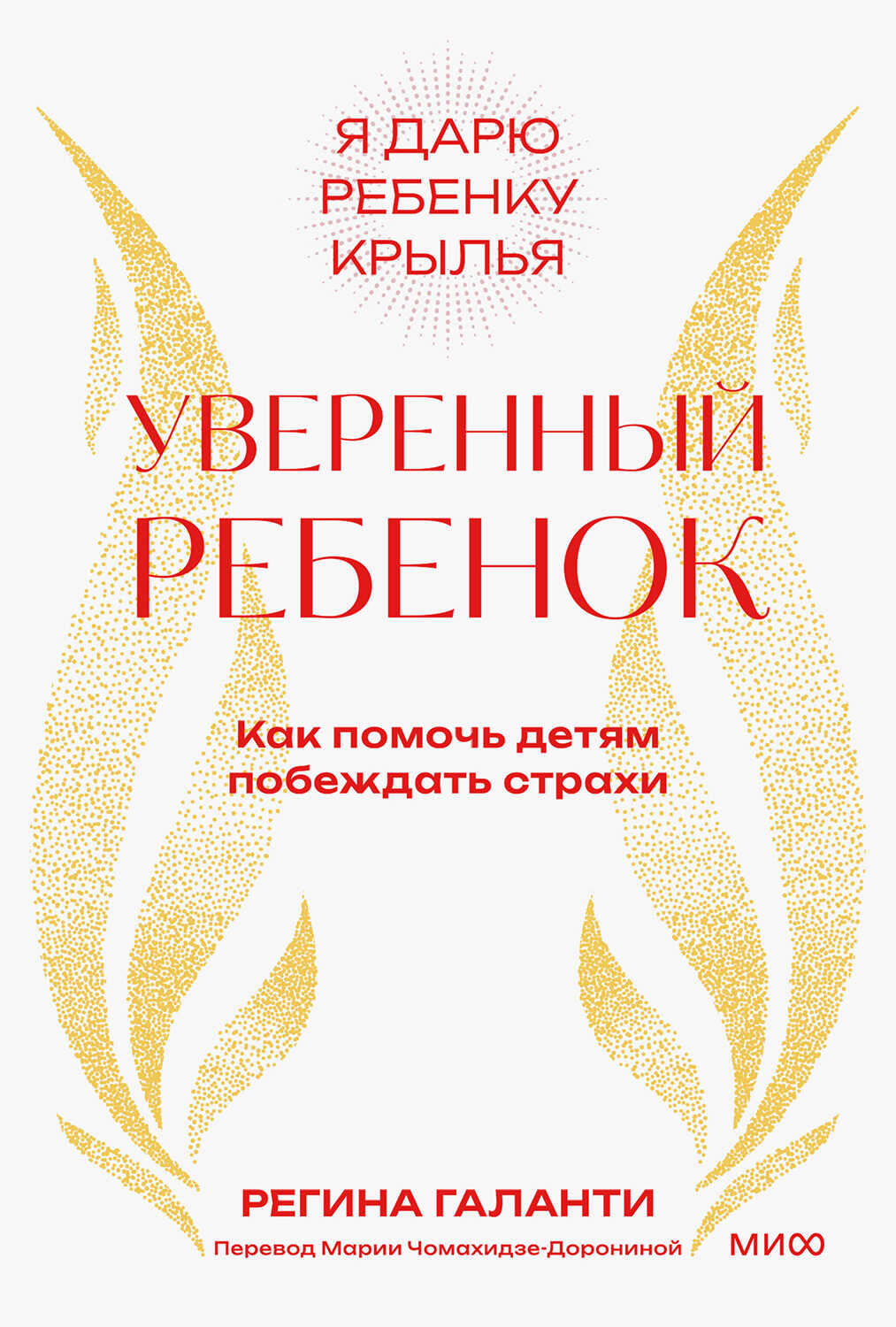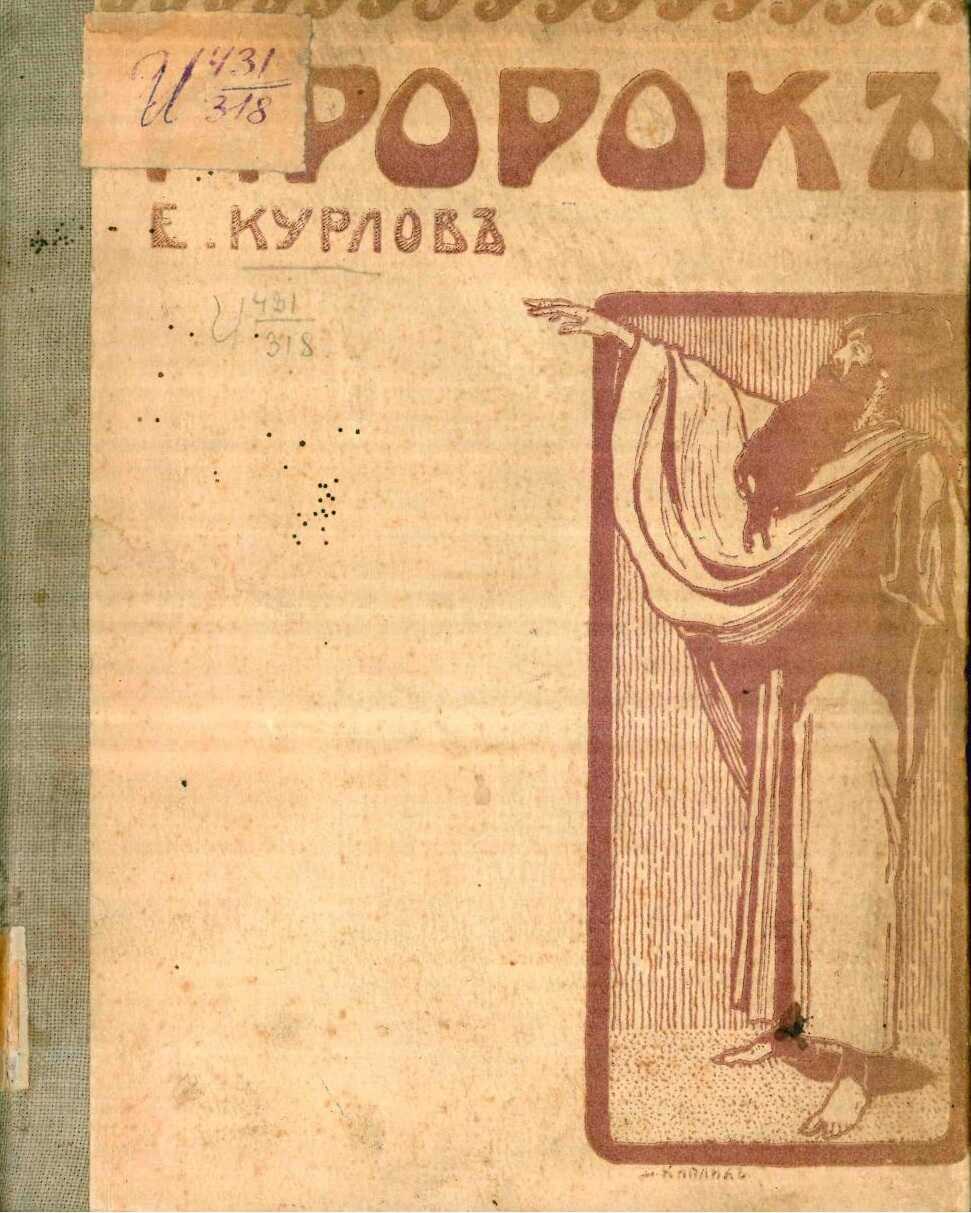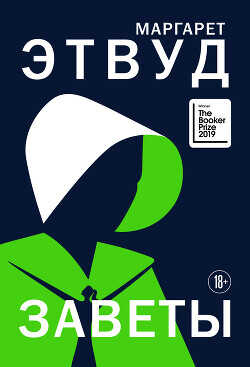— Изрисовали, — сказал Мостовой, вытирая набежавшую от смеха слезу.
— Пометили, — согласился дед Меркул, подмаргивая багровым глазом, над которым повисла шишка, похожая на грецкий орех.
— Шкурка говорил, пятаки в кулаках зажимали.
— Неужто пятаки, — возмутился Егор. — Да я их за это упеку!
— Никуда не упекешь, — сказал Меркул, — молчи уже да посапывай в две дырочки. На улице балакают, что большевики против кулачек.
— Против, против, — возмутился Егор, — знаю, что против. А запрети — снова на меня бы накинулись. Старые, мол, обычаи рушу, — заходил по комнате, — вчера хоть выяснилось, кто за нас, а кто против. Лицо показали, понятно? А таких слухов не распространяй, Меркул, нам вредно. Ишь чего придумал!
— Да разве это я, разве от меня слух ползет?
Меркул осмотрел комнату и с таинственным видом приблизился к Батурину и Мостовому.
— Не только про кулачные дела станица шумит, — сказал он и в нерешительности остановился.
— Ну, — Егор насупился, — чего язык заховал?
Дед перегнулся к Егору, и Батурин внимательно рассматривал Меркулову подрагивающую шею, крепкую, изъеденную глубоким узором морщин.
— Под Выселками да под Тифлисской станицей побили, говорят, товарищей. Убитых много, и навряд Ка-теринодар товарищи заберут, а как бы и с Армавира-города не пришлось мотать.
Мостовой знал о положении фронтовых дел. Сводки сообщали о временном отходе, причем противника презрительно называли бандой. Как фронтовик, Егор привык считаться с соединениями противника, именуемыми армиями, корпусами, дивизиями. Раньше, на фронте, враг был весом и грозен, здесь же легковесен и ничтожен.
— Чудак ты, Меркул, — ухмыльнулся он, — кто-то тебе с перепугу ухи прожужжал. Бьется супротив наших какая-сь там банда, а ты пужаешься.
— Да я не пужаюсь, Егор Иванович, — сказал дед* доверительно притянув собеседников к себе, — казаки мы, все трое казаки, нам небоязно промежду собою побалакать. — А что, ежели и в самом деле до Жилейской допрут филимоновцы?
— Ну, — Егор прищурился.
— Одюжат ежели они?
— А? Ты вот о чем. Меня не касается, кто одюжит, меня касается, кто правый в этой драке.
Павло устремил пытливый взор на Мостового.
— Теперь я по-твоему спрошу: ну?
— Правда у большевиков, и пусть мне голову за эту самую правду отдерут, не пожалкую.
Павло встал, потянулся.
— А вот я, Егор, не такое рассуждение имею.
Мостовой насторожился.
— Какое же?
— Жизнь-то одна? Кидаться ею не стоит. Раз известно, у кого правда, надо тем и пособлять. Всех раскидать и до победы добраться. Руки отдерут, ноги оторвут, на пузе одном ползи, как ужака, а добирайся, чтобы зубом рвануть.
—. Это ты справедливо, — успокоился Мостовой, — я с тобой согласный. А насчет фронтов не сумлевайся, Меркул. Как неустойка будет, нас позовут. Я думаю, пе об-минут нас? Чему хорошему, а войне мы с люльки приучены…
Прискакал взволнованный Шульгин. У кубанского обрыва, по дороге к полустанку, напали на хлебный обоз.
— Чего сделали? — спросил Мостовой.
— Постромки пообрезывали, четверик коней угнали, колеса поснимали.
— Кто?
Шульгин помялся.
— Слух идет, как бы не Шкурка.
— Ты сам там был? — тихо спросил Мостовой, и все заметили, как посерели его плоские щеки.
— Нет.
— Кто сопровождал?
— Тоже не знаю.
— Раззява, — Егор толкнул Шульгина в грудь, — растрепа. Три часа сам не побыл, не обеспечили.
Егор перегнулся, рывком выдвинул ящик, выхватил наган, покатал барабан на ладони, проверяя заряды, и, сунув его в карман, выскочил из комнаты.
— Догнать надо, — забеспокоился Меркул, — убыот.
— Не убьют, — успокоил Батурин, — не пришло еще время убивать.
В словах Павла по-прежнему звучал затаенный смысл, словно, зиая что-то большое и важное, Павло не хотел делиться с другими до поры до времени.
Оправившийся Шульгин поднялся. На лице его появилась какая-то жалкая улыбка.
— Поеду обеспечивать.
— Поезжай, — разрешил Павло.
— Может, ты со мной?
— Мне там делать нечего. Сами сумеете добро размотать. Добывать хлеб — потяжелее, чем базарить.
Шульгин ушел, похлопывая плетью. Павло видел, как он отвязал коня, прыгнул на него и сразу тронул карьером.
Сегодня в Совете почему-то было безлюдно. Никто не являлся ни за землей, ни со спорами. Павло верил в Совет еще за то, что здесь, в отличие от правления, всегда кипела жизнь. Сегодняшнее безлюдие его смущало. Чтобы рассеять нехорошие мысли, он обошел двор, покричал на ямщиков за раскиданные водопойные ведра, проверил наряд тыждневых.
— Ишь запаршивели, — укорил он, обходя выстроенных в ряд юнцов и стариков, обычно нанимающихся дежурить за других, — небось при атамане гладкие были…
Тыждневые похихикали. Батурин приказал вымыть нары, пол, поставить бачок для воды, к бачку прицепить на цепку кружку. Осмотрев пожарный обоз, погонял за непорядки и возвратился в Совет. Выдвинув ящик, начал внимательно перечитывать полученные из города письма. Бумажки почему-то официально именовались отношениями, были длинны и скучны. Батурин весьма обрадовался подъехавшему Мостовому.
Егор был раздражен и неприветлив.
— Ты чего ж это на меня бирючишься? — обиделся Павло. — Не нравлюсь, скажи. Шапку сниму, — только меня и видали. Меня вот от этой человеческой пакости, — Павло указал на бумажки, — на блевотину тянет. И каждый день по такому морю Черному плаваю. Замечаю, виски белеть начали.
Мостовой прямо глянул в глаза Батурина.
— А каково мне тогда?
— Ты вроде интерес имеешь.
— Интерес, — Егор скрипнул зубами, — кабы мне найти тех, кто шкоду наделал.
— Что там?
— Все так, как Лютый пересказывал. Вытащили мы колеса с яров, а они негожие. Порубанные…
— Неужели порубили? — возмутился Павло.
— Сам в яр лазил, было голову сломал.
Тут только Батурин заметил, что Мостовой вымазан в глине.
— Барбосы, — сказал Батурин. — А про Шкурку верно?
— Брехня. Шкурка другие сутки с хаты не выходил. Кабы нашел, сам бы перестрелял. Видать, надо тюрьму открыть, без нее сволочам тошно…
— Охрану надо послать, — посоветовал Павло.
— Послали уже.
— Не мало?
— А где больше возьмешь? Дружину почти всю для Армавира израсходовали.
— Я достану, — твердо сказал Павло, — меня фронтовики, послушают. Фронтовиков подберем.
— Может, отряд с города вытребовать?
— Не надо, — Павло сморщился, — не стоит народ дражнить. Ты же здешний, сам знаешь, как на наше общество чужой штык действует…
Участие Павла значительно ободрило Мостового. С уходом на фронт Хомутова и Барташа Егор на долгое время почувствовал себя одиноким, так как с первым отрядом ушли лучшие из тех, кто понимал Егора и дружил с ним. Станица, несмотря ни на что, все же представлялась Егору населенной врагами. Ожесточенное его сердце искало возможностей непосредственной, чуть ли не физической расправы, но его сдерживали указания из города. С людьми, способными на измену и вероломное предательство, он боролся известными ему путями: прямым убеждением, искренностью. Они были лживы, он был правдив. Они ходили темными переулками, он на виду у всех мчался на своем Баварце. Они втихомолку натравливали на него, но он не слышал этих наветов. Он хотел бороться в справедливой и честной схватке, они увертывались, имея за плечами вековой опыт.
Сегодня враг опять Исчез, поглумившись над тем святым и великим делом, которому Егор Мостовой отдавал свое большое натруженное сердце.
Сейчас Батурин поддержал его. Мостовой близко ощутил эту помощь.
— Иди, Павло.
Обозы шли под усиленной охраной фронтовиков. Отцы выбегали, проклинали своих детей, но казаки медленно двигались возле дороги, плотно сжав губы. Павло скрепя сердце делал то, что обещал Мостовому.
Откуда, с каких глубоких времен вошли в быт кубанских станиц ночные погромы воров? Зачастую перед избиением пролетало чуждое слово «рафоломеевская ночь». Откуда казачьей станице знать имя святого Варфоломея?.. Может, нетерпимость запорожцев к воровству укоренила жестокий обычай?
Может, принесли на Кубань запорожцы наряду с пленительными подвигами, наряду с удалью и отвагой порочные традиции воинственных куреней? Как бы то ни было, страшно, когда глухой ночью набат поднимает станицу. Проносятся толпы и конные ватаги, вспыхивают десятки факелов, разбрызгивая копоть и искры. Врываются озверелые люди в заранее изустно заклейменные дома, и пронзительные вопли сгущают ужас ночи, будто поднявшейся из средневековья.
— Семен, набат, — тревожно сказала Елизавета Гавриловна, толкая в бок мужа, — проснись, Семен.









![Кармилла [сборник] - Джозеф Шеридан Ле Фаню](/uploads/posts/books/421995/421995.jpg)