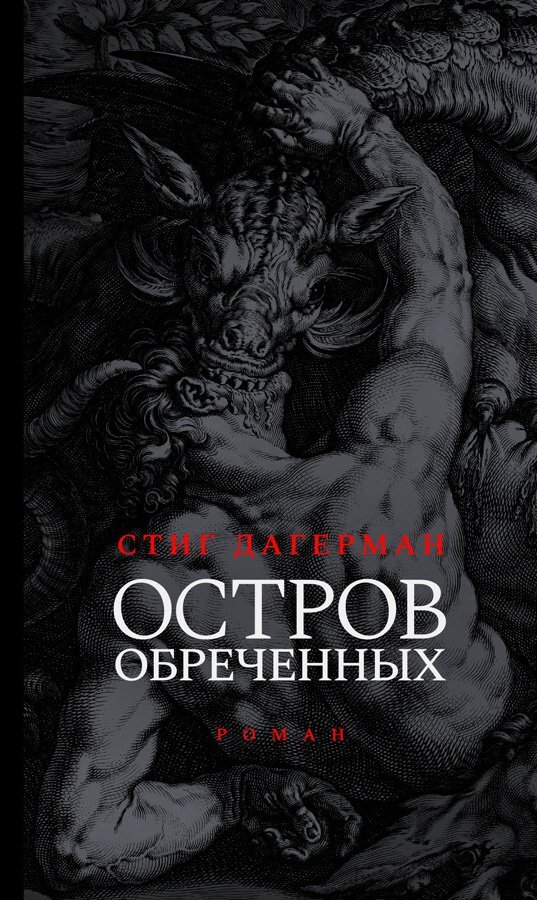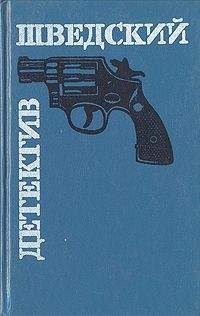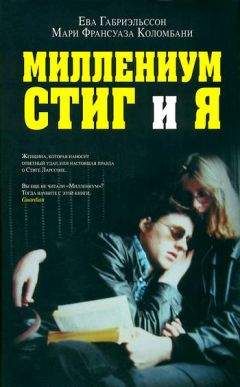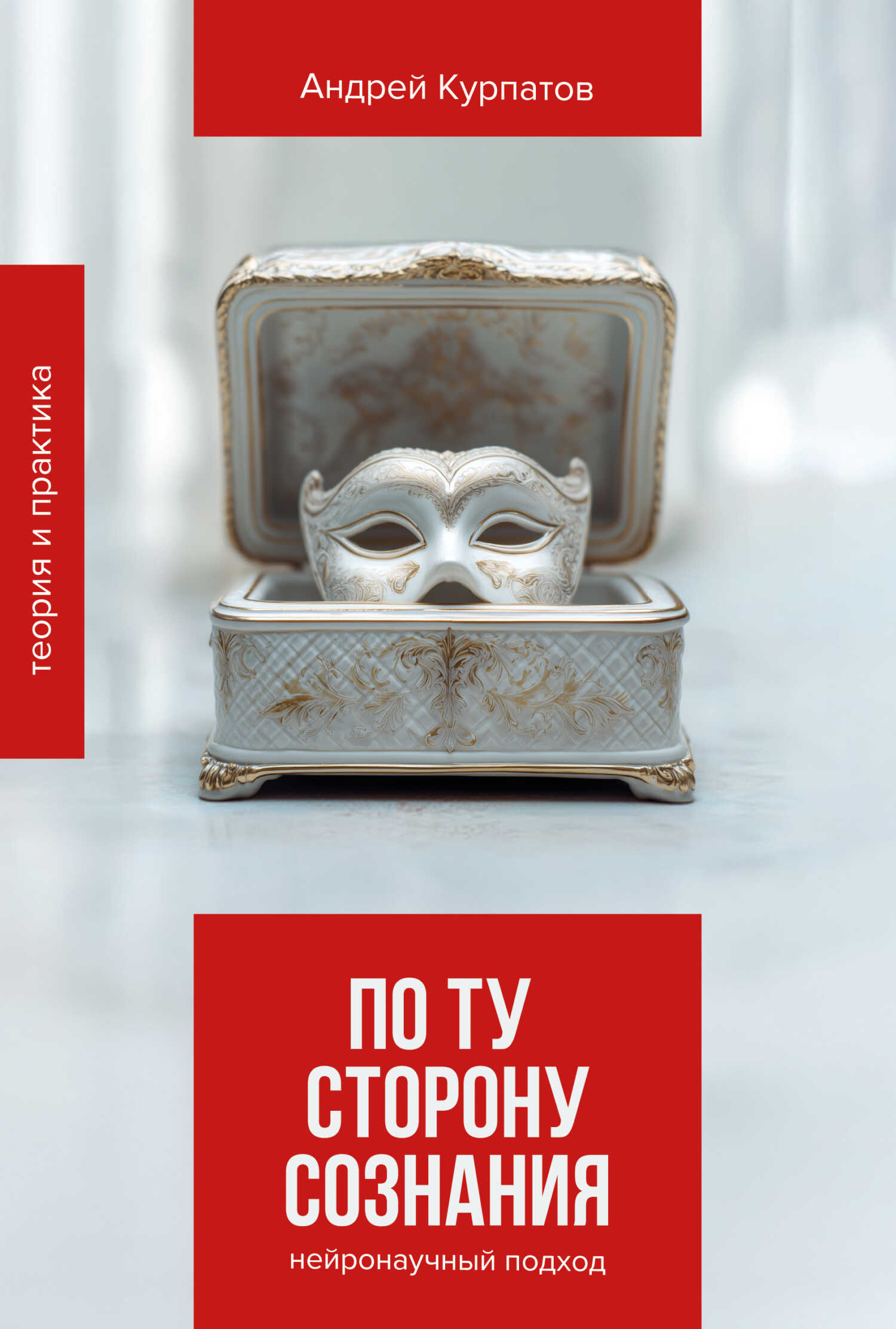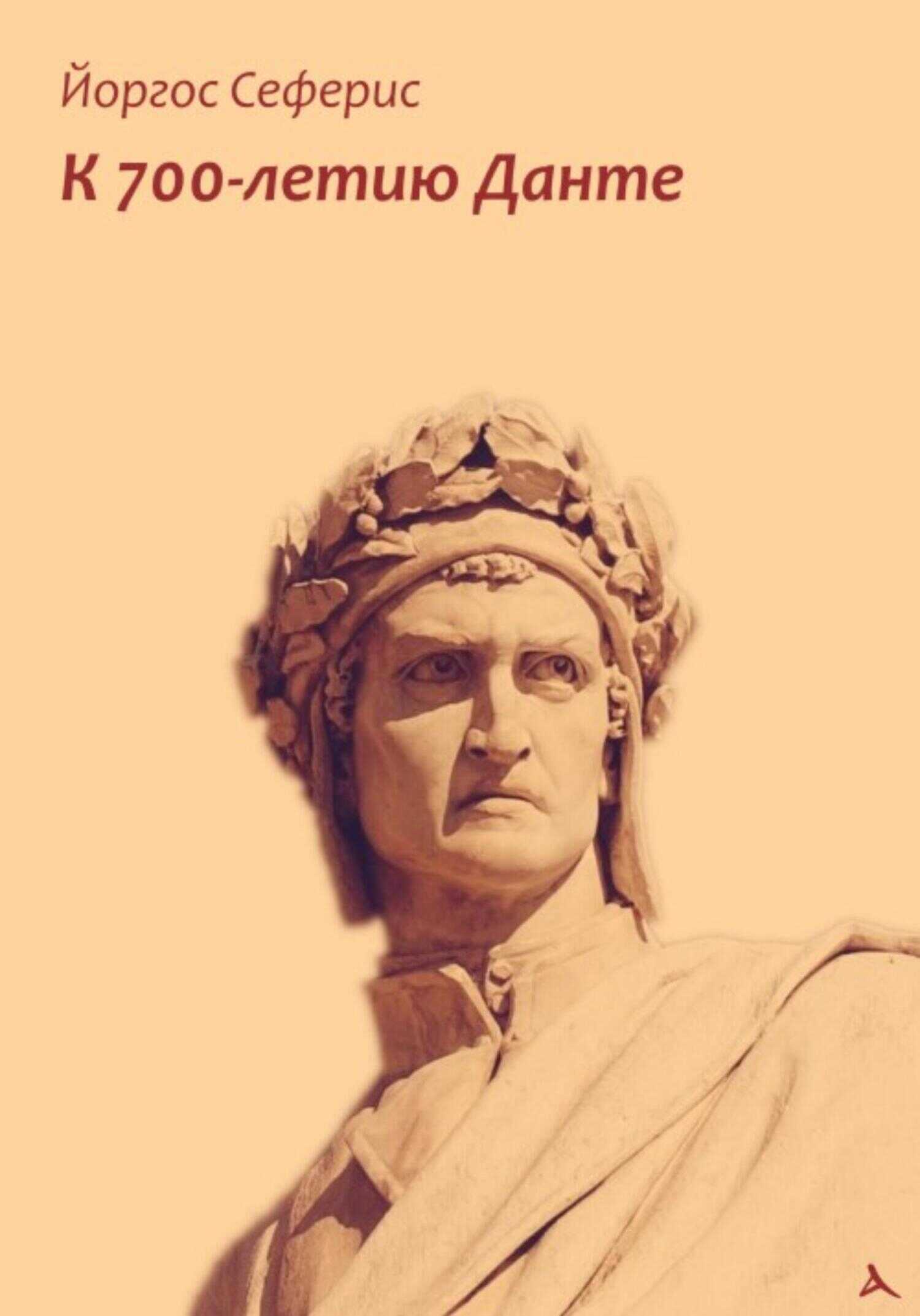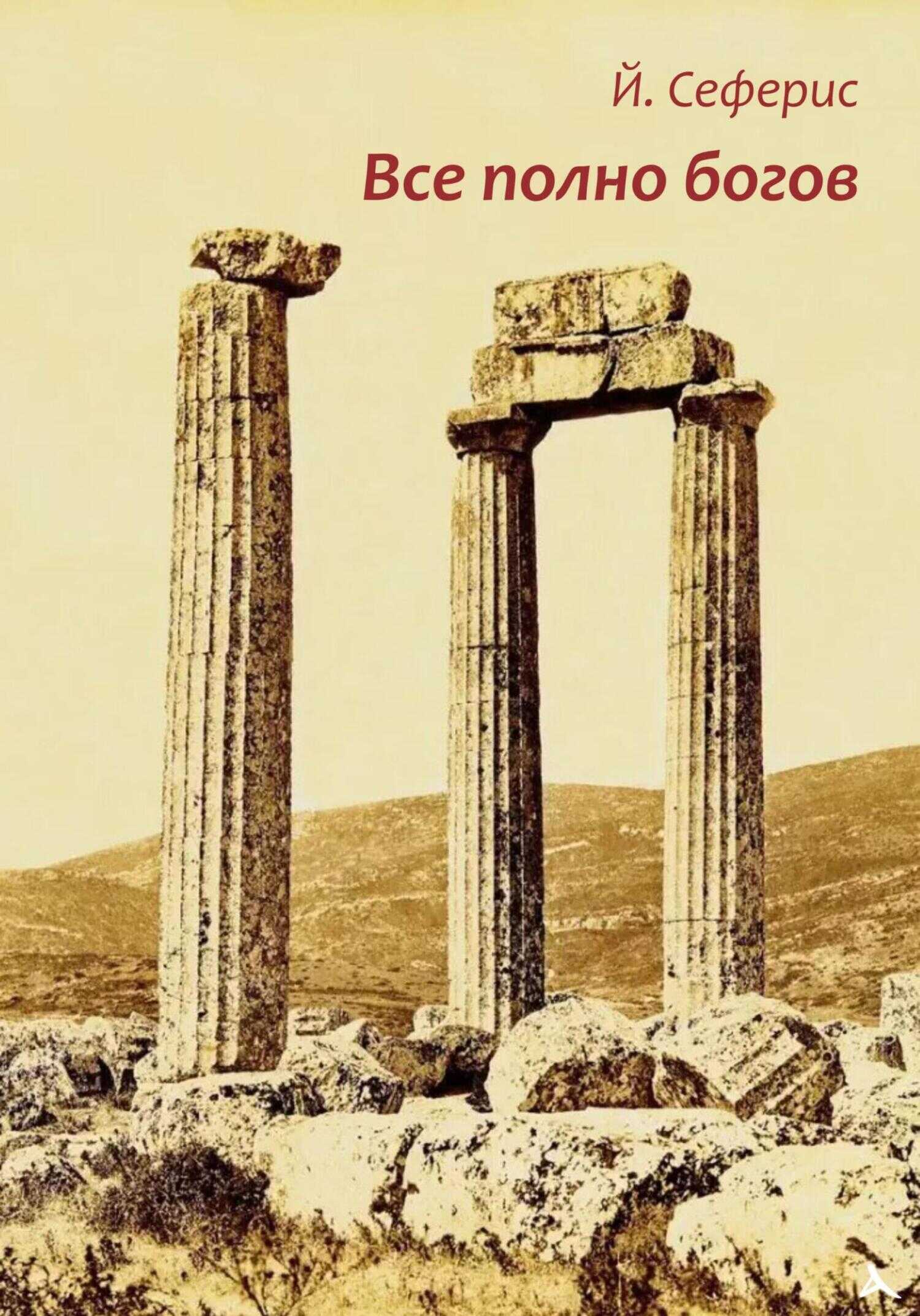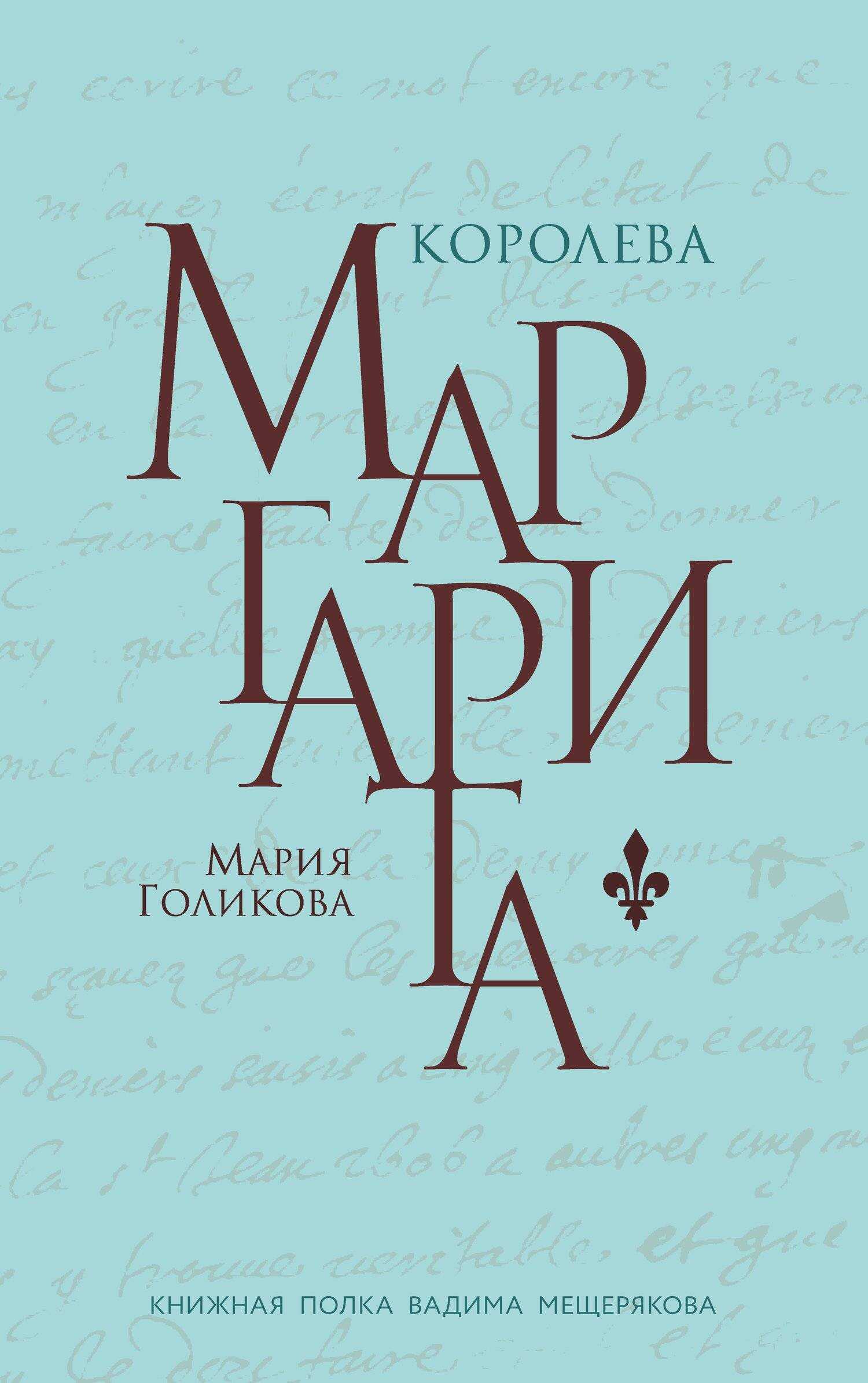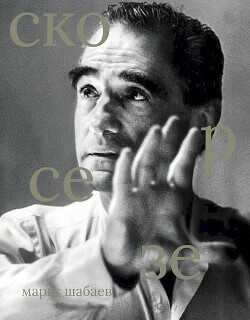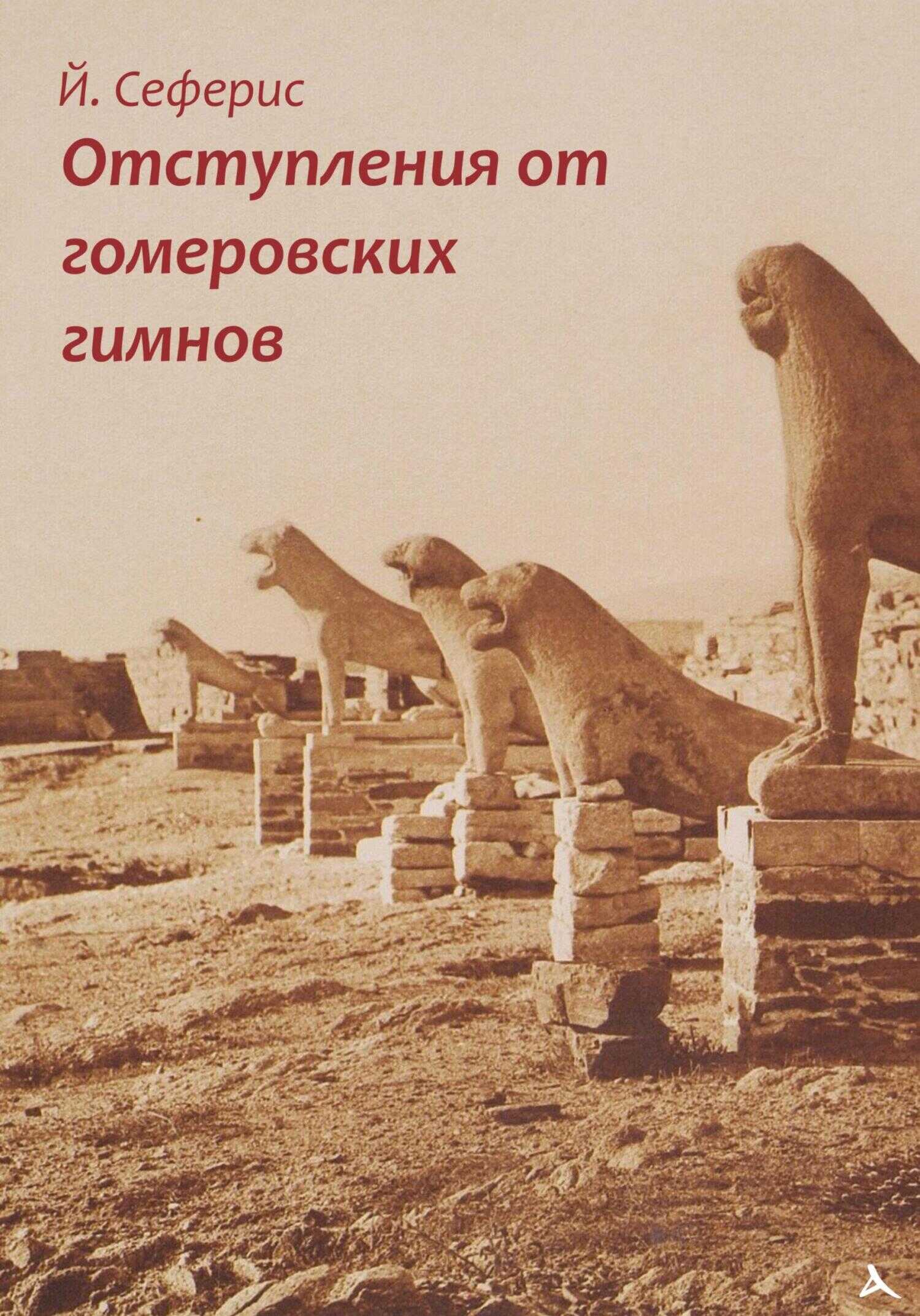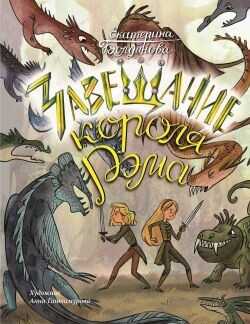столом – лишь жалкая попытка бегства. Иногда наступало удушье, я задыхался, но в последнюю секунду бросался на пол и рвал на себе одежду; я чувствовал себя виноватым и кричал жене: в чем ты меня обвиняешь? Я тебе не судья, отвечала она. Нет, ты – палач, кричал я. Но у меня нет топора, кричала она в ответ. Эти разговоры тянулись бесконечно, как эскалатор, и мне становилось все тяжелее и тяжелее дышать, и ничего не получалось. Но однажды, две недели назад, когда я остался совсем один – она уехала, как всегда, не навсегда, – я вдруг перевернул стол, отгородился им, как баррикадой, потому что мне показалось, что кто-то вошел в комнату и вот-вот набросится на меня, искусает, с хрустом разжует, и тут меня как будто бы со всей силы ударили по затылку: комната исчезла, словно великан взял огромный ластик и стер ее из моего сознания, все вокруг залило ослепительным светом, и я снова оказался обездвиженным на пустой поверхности посреди вселенной; сначала там царила бездонная тишина, потом раздался какой-то свист, как будто где-то сорвалась капля и с бешеной скоростью начала падать сквозь вечность, пошел невидимый дождь, вечный предвестник песни, – и тут вселенная запела, а я стал ухом, я стал расти из бездны, а когда наконец очнулся, в комнате все было как обычно, но я весь вспотел от этой песни и понял, что больше никогда не смогу убежать от одиночества, тем более с помощью таких искусственных средств, как сочинение стихов, и мое прошлое разом навалилось на меня; мне вдруг пришла в голову странная идея, что я одновременно и мужчина, и женщина: я нарядился в одежду жены, напился и любил себя, а потом мне резко что-то понадобилось на чердаке. Никто не заметил, как я подошел к двери, и тут я вспомнил, что забыл ключ; на лестнице раздался какой-то шум, я перегнулся через перила и увидел большую компанию людей в черном: они поднимались, и моя жена была с ними. Я заполз на самый верх лестницы, надеясь, что меня не заметят, но, разумеется, кто-то тут же схватил меня за плечо и развернул к себе. Отто, раздался чей-то голос; я забежал в квартиру, но они бросились за мной. В ужасе я стоял посреди комнаты и озирался по сторонам, со стыдом замечая, что в комнате жуткий беспорядок, причем не мужской беспорядок, угловатый и брутальный, а беспорядок женский – мягкий, завихряющийся, утягивающий на дно.
Забившись в угол, я спрятался за столом, готовый отбиваться, и закричал:
– Что вы знаете об одиночестве?! Что вы знаете о великом одиночестве вселенной?! Вы и понятия не имеете, как вселенная поет от одиночества! Вы читаете стихи об этом, вам рассказывают об этом на страницах романтических романов – и все! – кричал я диким, встающим на дыбы, словно необъезженный жеребец, голосом, ибо палач внутри меня занес надо мной топор и отрубил всю мою привычную нормальность. – Но что есть вся мировая литература по сравнению с одним-единственным талантливым самоубийством? Что такое жизнь по сравнению с одной-единственной неудавшейся попыткой самоубийства, что значит достойная жизнь по сравнению с достойной смертью?
– А теперь все закончилось, – говорит он уже задремавшей девушке, – все продано, и есть лишь одна колея, понимаешь. – И тут он грубо будит ее и засовывает ей в ухо банкноту.
– Ты же так ничего и не рассказал, – зевает она, – но все равно – спасибо!
Тем временем он уже закинул на плечо рюкзак и идет к поезду.
Колея разрезает пустыни, окрашиваясь на закате кроваво-красным, он бежит по ней, фонтанируя по́том и кровью; он проклинает колею, он любит колею, покрывающий ее чистый белый снег хрустит под ногами и колесами, под ногами белеют ребра животных и людей, в реках то и дело всплывают останки давно затонувших кораблей; иногда вдоль колеи зажигаются костры, иногда костер разгорается внутри него самого, но лучше просто идти вперед, потому что прахом пошли все надежды, кроме одной: что колея рано или поздно изловчится, изогнется дугой и приведет его в одиночество, гигантское одиночество, где звучит та самая песня, и лучше пожертвовать всем, лучше оставаться верным своему одиночеству, предавая все остальное, и тогда, возможно, колея внезапно пойдет под откос и приведет его к Бою Ларю или еще кому-то из выживших, упрется в его или чью-то еще грудь, ибо надежда есть всегда, одна-единственная надежда на все времена – надежда на то, что колея совершит прыжок в вечность именно из этой груди, именно из этого сердца.
Такой маленький вулкан для такого большого огня
Видимо, он внезапно стал похож то ли на убийцу, то ли на пьяницу, потому что никто не сводит с него глаз. Они наклоняются над опустевшей бочкой, заглядывают в нее, в их движениях сквозят угроза и страх. Их разбудил чей-то крик, и шок от резкого пробуждения все еще играет на лицах. Испытывая невероятное беспокойство, он делает несколько шагов в сторону, чтобы ненароком не выдать себя. Капитан всем телом медленно разворачивается направо, к нему, пряча в лохмотьях сжатый кулак, как будто нащупывая револьвер.
Какой же я идиот, думает Лука Эгмон, какой же я идиот, что не подумал об этом, не подумал, что у меня такое дурацкое лицо и по мне сразу видно, что я сделал и что собираюсь сделать, – с тем же успехом можно было бы крикнуть об этом во все горло, и то было бы не так противно, не так чертовски жутко! Как будто по лицу ползают муравьи, а я не могу и пальцем пошевелить, чтобы смахнуть их, потому что никто не должен знать, что они там.
Капитан, нелепо изогнувшись, наклоняется к нему, рука дрожит от желания схватиться за револьвер. Они окружают Луку не сразу, просто надвигаются со всех сторон, грозные и сжавшиеся, словно цирковые львы перед прыжком, и он думает, что сейчас ему не помешал бы хлыст, – один удар, и они бы легли на песок и поползли к нему на животах, вытирая лбами землю, еще удар – и они бы слизывали песок с его ног. Вот о чем мечтает живущий внутри него страх.
Внутри каждого из них есть страх, который о чем-то мечтает. Сегодня – последний день их жизни, и очень глупо, что они понимают это лишь бессознательно, как старая лошадь, которая чувствует, что ее ведут на убой, когда невысокий кривоногий