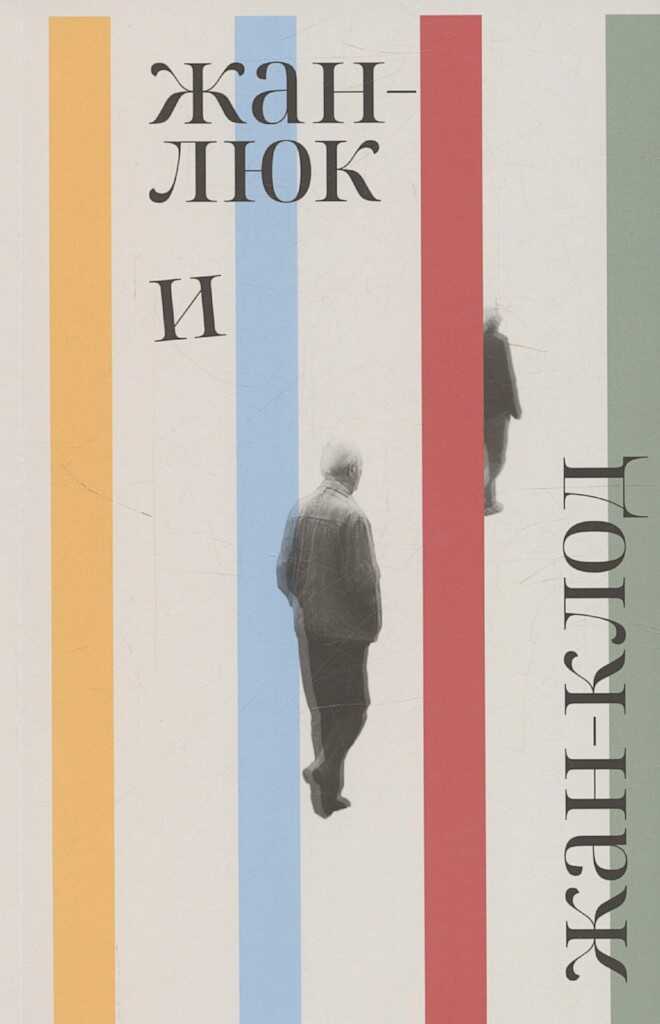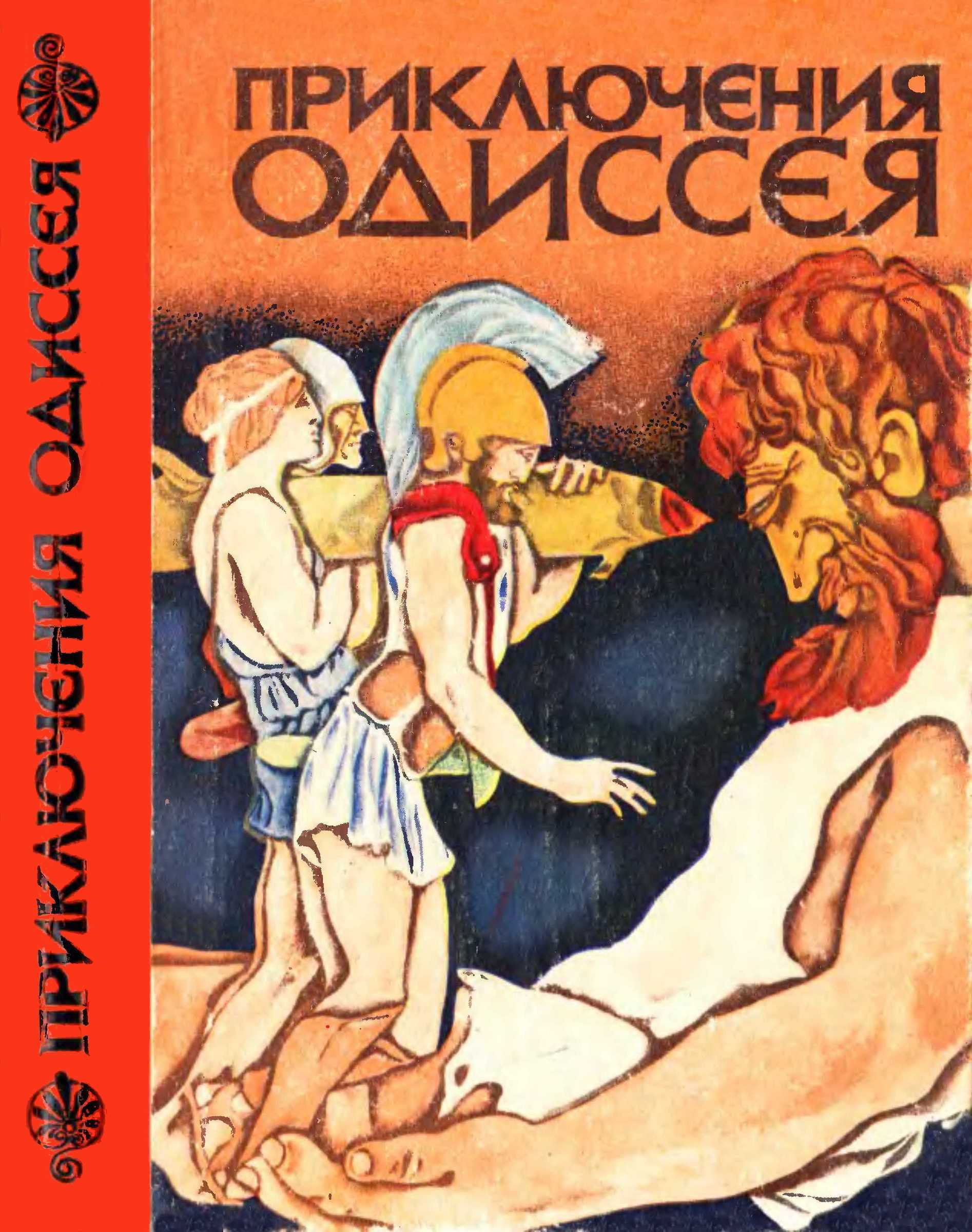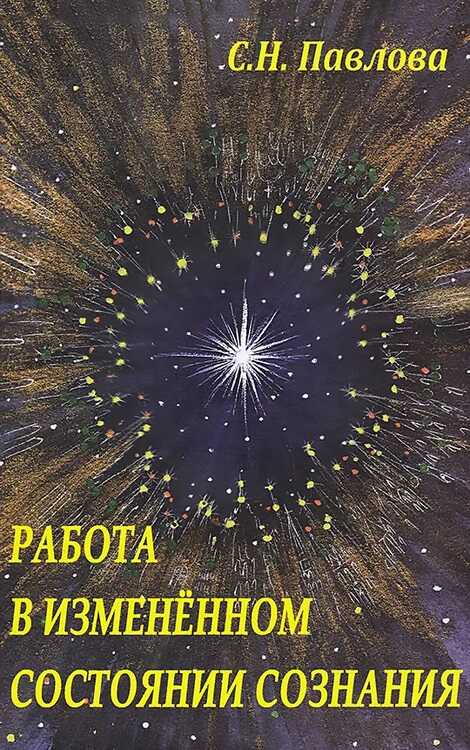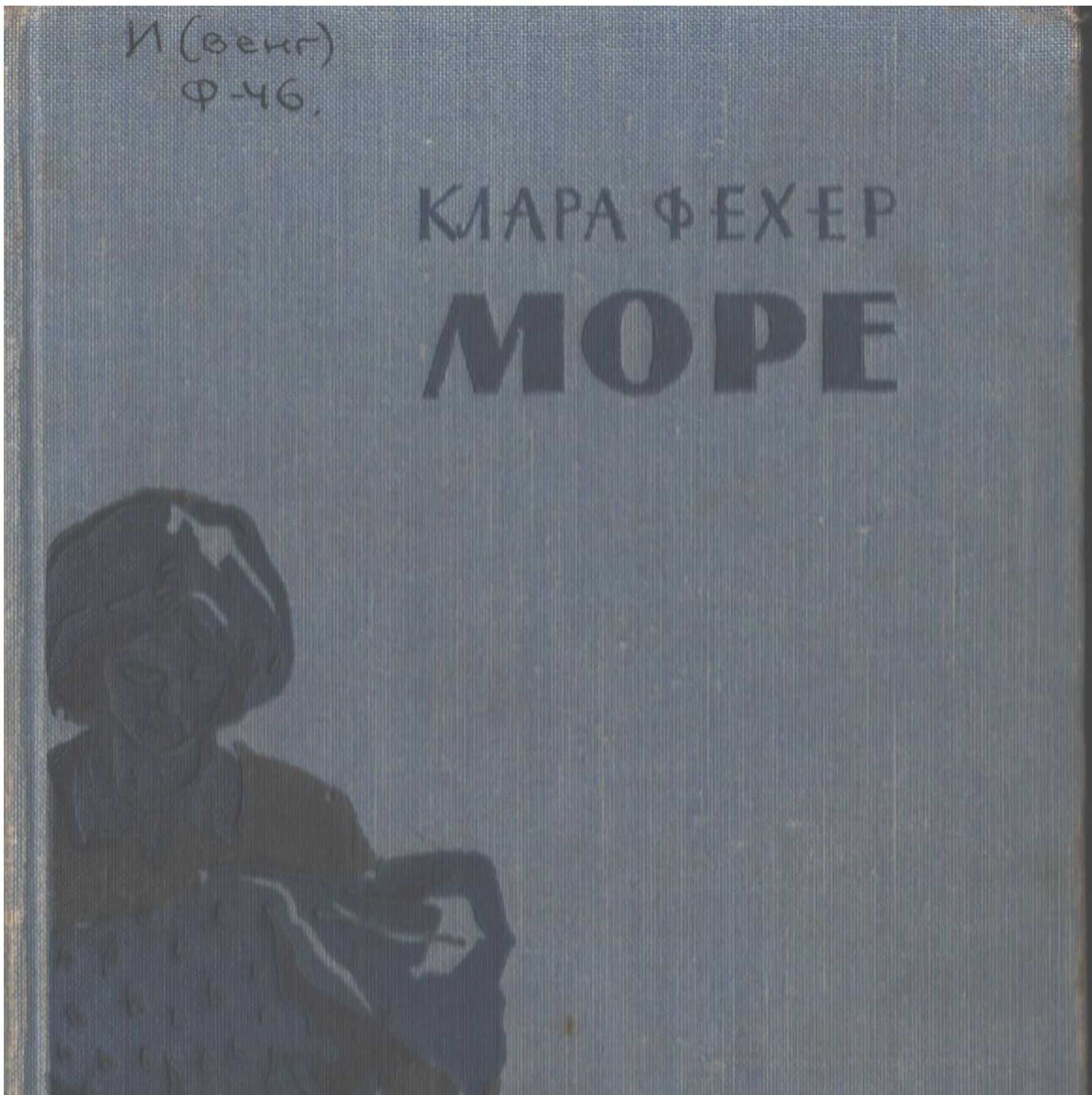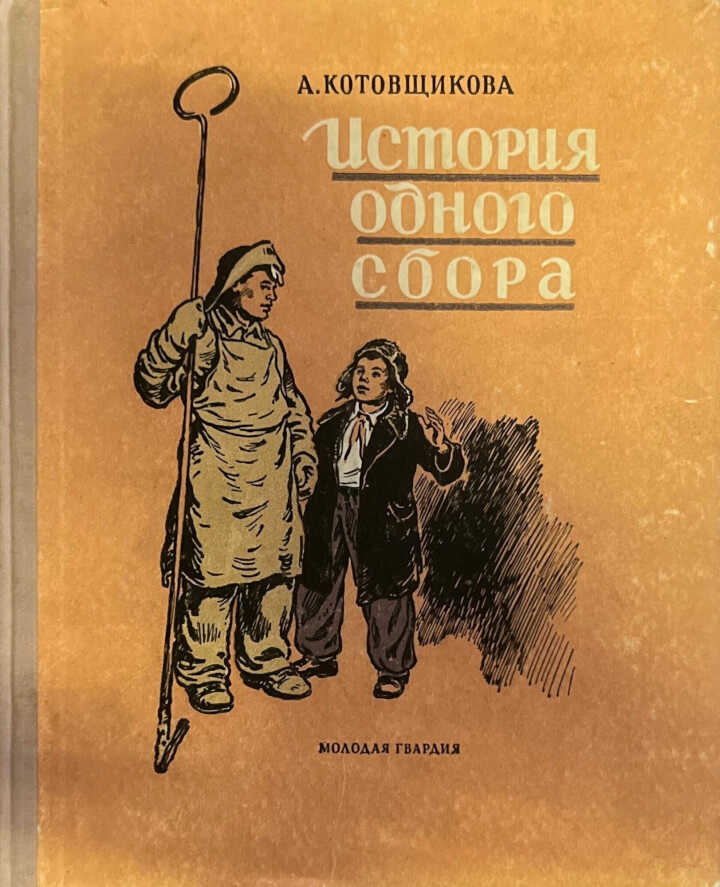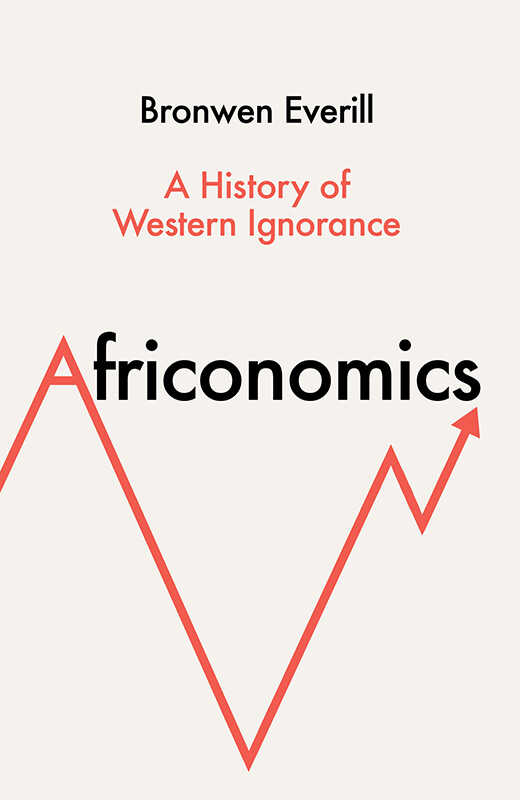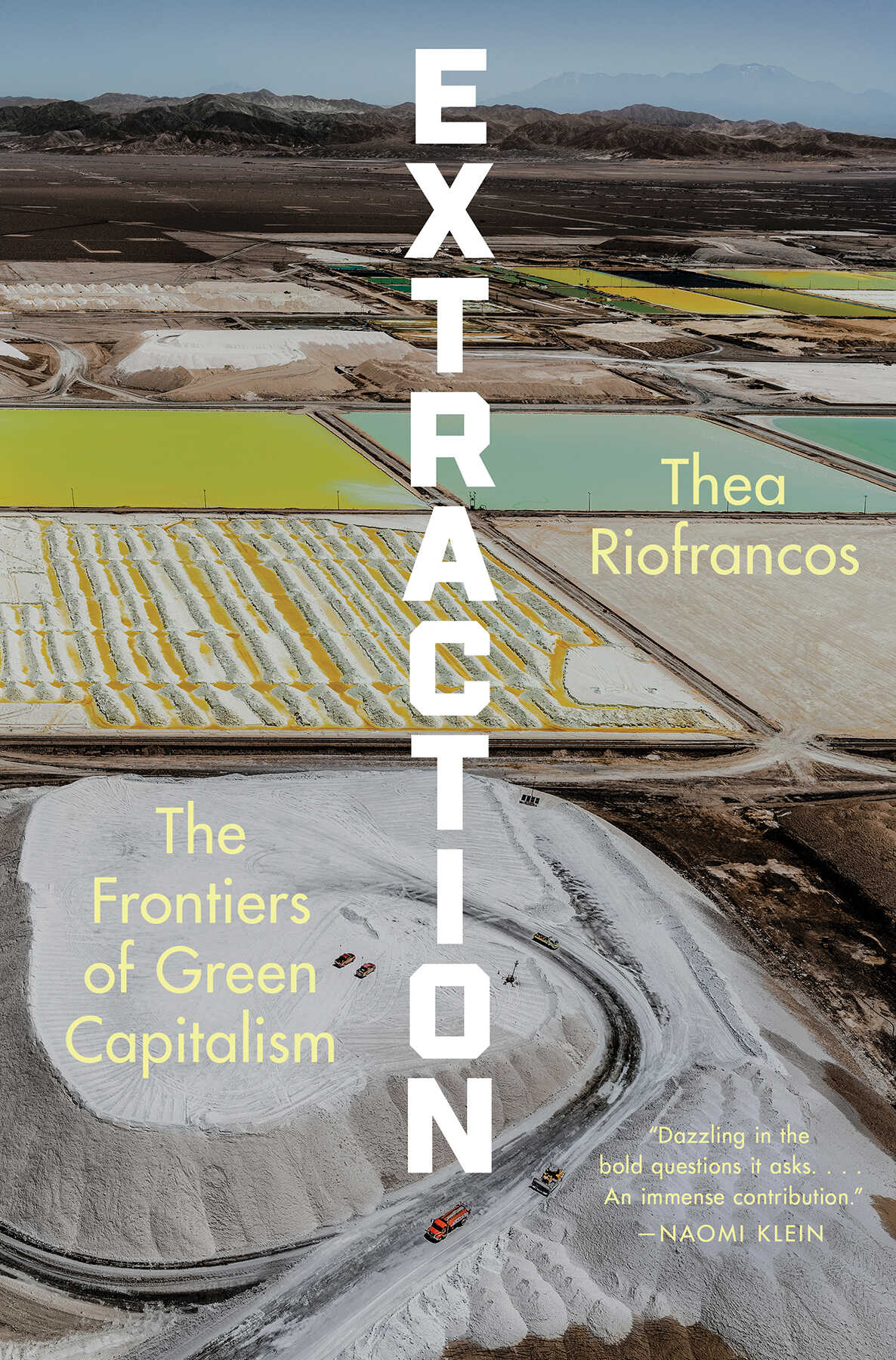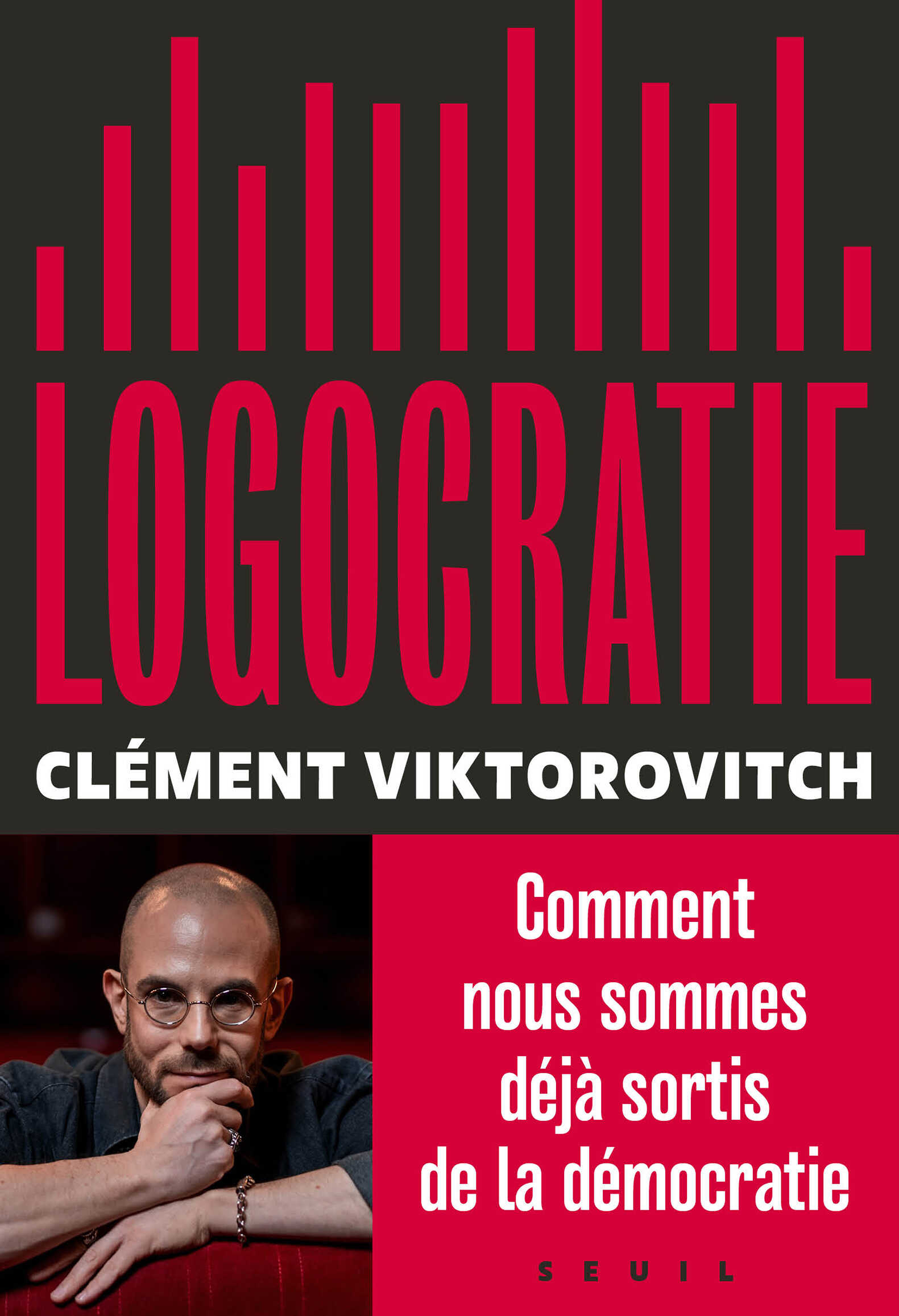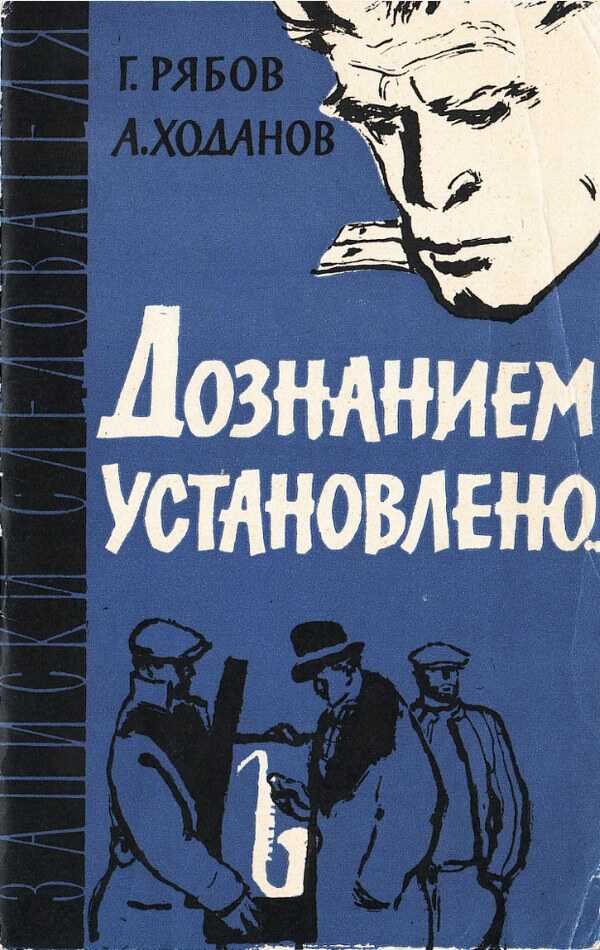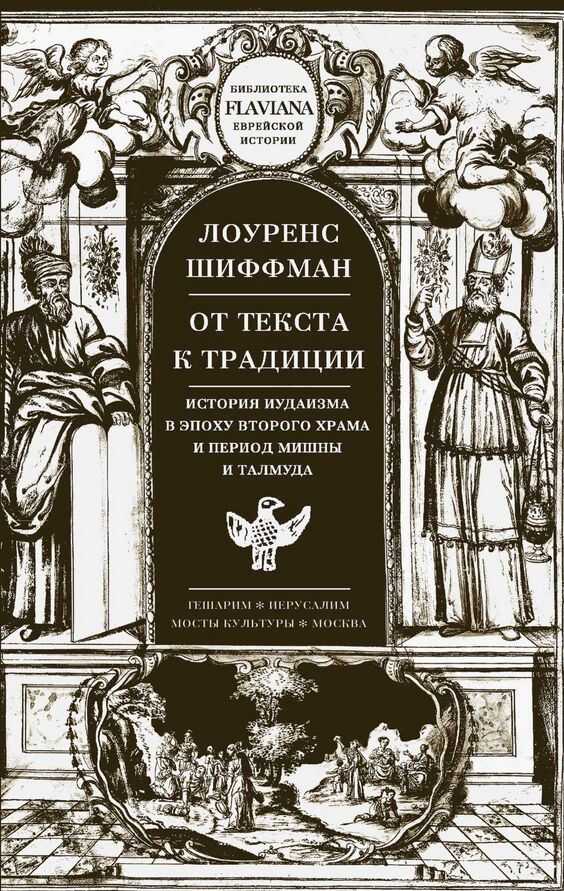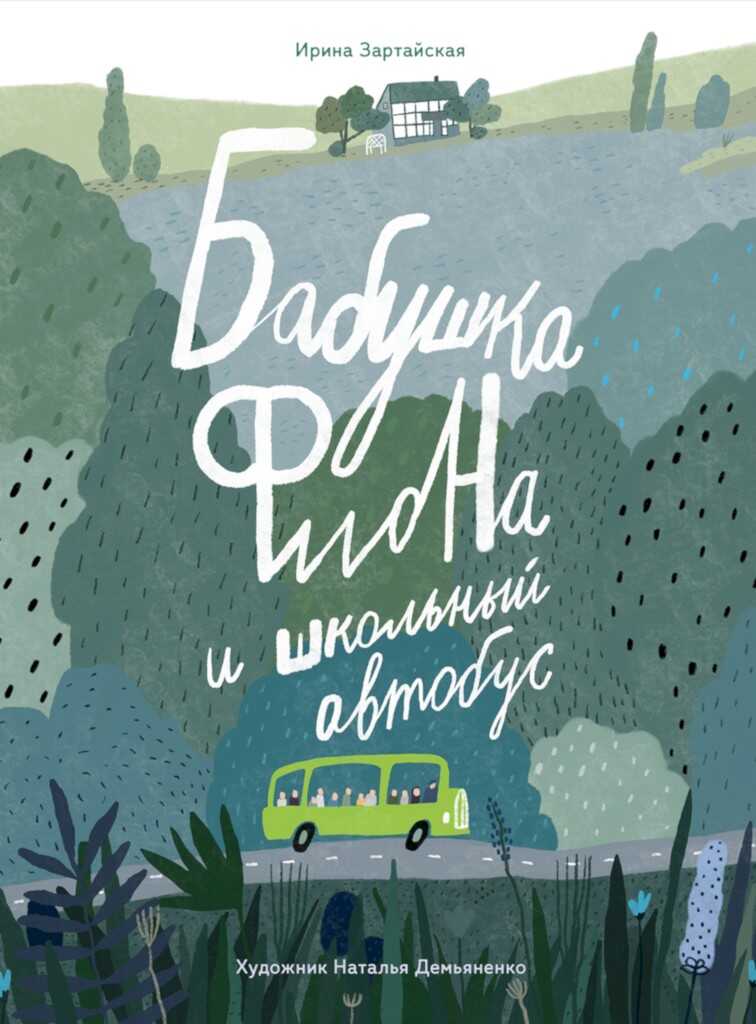— Кашлять не будешь? — озабоченно спросила тетя Вера.
— Не, сперва чайкю попью, спою песню-другую, а там уж покашляю, — заверила тетя Паша.
У тети Паши «нет терпения на докторов», а главное, она не может упомнить, как надо принимать пилюли. Она спохватывается вечером и берет их за один присест — жменей. «Ну, и помогает?» — улыбнулся Маликов. «Не скажу, зато мутит всю ночь! — жизнерадостно отозвалась тетя Паша. — Вы за кашель не переживайте. У меня сейчас в груди сухо и просторно».
Наша тетя Вера тоже не ударила в грязь лицом: надела красивую черную юбку, новый платок повязала, а на плечи кинула шаль с крупными цветами по лиловому фону. Подруг подобрали по старому, проверенному способу контраста, безошибочно рассчитанному на добрую улыбку: Дон-Кихот и Санчо Панса. Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак, Пат и Паташон. И как перечисленные герои, они разнились не только обликом, но и внутренней сутью: длинная, худая тетя Вера — сплошная духовность; сдобная пышка тетя Паша — воспаряет лишь в пении. Вне этого она вся принадлежит земле, охотно отдавая дань ее плодам, впрочем, тут ею движет, скорее, любопытство, нежели чревоугодие. Хочется всего попробовать, — она набрала гору снеди в тарелку и почти все оставила. Подошедшая чуть позже — внуков укладывала — тетя Настя, монументальная и довольно угрюмая с виду старуха, оказавшаяся на редкость заводной, иронично-затейливой, объявила, что, в отличие от своих подруг, всегда была заядлой грибницей, но убеждена, что самый лучший гриб не белый, не рыжик и не чернуха, а колбаса. Этот гриб в болдинских местах отчего-то вывелся.
Хлебнув хорошо заваренного Геннадием чая, тетя Паша со смаком определила:
— Индейский!.. — И вдруг запела на немыслимых верхах:
Не глядите вы на нас,
Глазки поломаете.
И подруги подхватили:
Мы ведь пушкинские были,
Разве вы не знаете?..
— О, частушка! — обрадовался Маликов. — Я столько слышал о болдинских частушках!
— Засохни! — прикрикнула тетя Вера. — Слушай песни, Натоль, и помалкивай.
Светит солнышко, да не по-летнему…—
высоко-высоко взвинтила песню тетя Паша.
Эх, любит меня милый, да не по-прежнему.
И сплелись, как тугая девичья коса, три голоса:
Эх, любит меня милый, да не по-прежнему-у-у!..
Сомкнулись сухие старушечьи губы, а долгая высокая нота все текла, замирая, но не замерла, а унеслась в открытое окошко и стала частицей жизни пространства.
Это трио стоило целого хора, никого больше не нужно, было все: и звень, и стон — птицы, ветра, вьюги, и «грома грохотанье». «Октава» тети Веры создавала тревожный, трагический фон, словно то не женская, а вселенская боль тщится себя размыкать. Что за чудо такое — тетя Вера! Пушкин, что ли, дохнул на нее из своего далека? Или старая крестьянка и давно ушедший великий поэт овеяны одним легким ветерком, тем самым, что серебрит ковыль на холмах, омываемых Пьяной? Ветерок веет на простых людей и приобщает их души к чему-то высшему, он опахнул гения — и взметнулось пламя.
Никогда еще я не чувствовал так сильно и сердечно все очарование старинного, медлительного, околдованного и завораживающего напева.
Не ругай-ка, милый, да не брани меня,
Эх, я и так горька-несчастна, что… что люблю тебя!..
У них был благородный обычай: не домогаться долгих упрашиваний перед очередной песней — не успеет замереть последняя нота, а тетя Паша уже заводит новую. И какая энергия была в ее прибаливающей груди, когда она, ничего в себе не жалея и не щадя, сразу подняла в поднебесье слезную жалобу:
Ивушка-ивушка, ракитовый кусток.
Травушка-травушка, лазоревый цветок.
Что же ты, ивушка, невесело стоишь?
Как же мне, ивушке, веселою быть?..
А ивушке и впрямь нечего радоваться: сверху ее красным солнышком печет, сбоку дождем сечет, а корни ей ключ размывает. Но это лишь присказка к беде, а настоящая беда пришла с боярами из иного города, что срубили ивушку в четыре топора. Из деревца бояре сделали лодочку и два весла и поехали гулять, захватив с собой красну девушку. И, как нередко бывает в старинных песнях, происходит вселение печальной ивы в девушку, томящуюся горем-кручиной. Живущие неправдой батюшка с матушкой «младшую сестру прежде замуж отдают».
Младшая сестра чем же лучше меня?
Ни прясть, ни ткать, ни початки мотать.
Только по воду ходить, решетом воду ловить.
Ох, с каким сарказмом прозвучало убийственное для сельской девушки обвинение в никчемушности и бестолковости! Но дороже родительскому сердцу эта пустельга, и, пропади все пропадом, обиженная и обойденная девушка, видать, разделит судьбу ивушки, срубленной в четыре топора. Об этом поется уже не песней, а изломом бровей, меркнувшим взглядом певуний…
Они поют много и долго. Прихлебнут из рюмочки, кинут в рот хлебного мякушка, освежатся глотком «индейского» чая и опять — к песне. И все таки тетя Паша перетрудила грудь — закашлялась. Тетя Настя стала колотить ее увесистым кулаком между лопаток, тетя Вера развела в кипятке меду и дала выпить.
— Очистило, — улыбнулась тетя Паша. — А всежки я отпелась.
— Все мы, милка, отпелись, — отозвалась тетя Настя. — Но покаместь землей не засыпят, будем горло драть.
Упрямый Натоль снова вспомнил о частушках, посвященных Пушкину.
— Экой ты настырный! — укорила его тетя Вера.
— Да ну тебя — воспитательница с детского сада! — отмахнулась тетя Паша и каким-то расхристанным голосом прокричала:
Алексан Сергеич Пушкин,
Мою Ниночку не трожь.
— Тьфу на вас! Бесстыжие! — разъярилась тетя Вера. — Прогоню, ей-богу, прогоню. Разошлись, как с бормотухи!
— Мы ничаво, — без тени смущения сказала тетя Настя, возвращаясь на свое место. — А если ученый человек просит, почему не уважить. Ему небось для науки надобно.
— Какой он ученый? Обыкновенный инженер, как все.
— Будто сама их сроду не пела, — подколола тетя Паша.
— Пела, когда глупая была. А сейчас не люблю…
Тетя Вера выждала, пока я перестану бренчать посудой, и по-болдински, без разгона ахнула с диким напором:
Полюбил всей душой я девицу
И готов за нее все отдать.
Жемчуго́м разукрашу светлицу.
Золотую поставлю кровать…
Я-то считал это старым городским романсом, а тут — библейское: влюбленный грозит отомстить за измену так, что «содрогнется и сам сатана»! Тетя Вера пела с какой-то черной страстью, но едва приметная усмешка порой трогала уголки сухих губ — старая умная женщина понимала, что слова этой сильной, гибельной песни далеко не пушкинские. Но был на ней самой пушкинский свет, как был болдинский свет на Пушкине…
Вариант
Уезжая в конце августа 1830 года из Москвы в Болдино, Пушкин отправил Петру Александровичу Плетневу, издателю, поэту и критику, впоследствии ректору Санкт-Петербургского университета, печальнейшее письмо:
«Сейчас еду в Нижний, т. е. в Лукоянов, в село Болдино. Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха 30-летнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думая о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери — отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения, — словом, если я и не нещастлив, по крайней мере не щастлив. Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает, — а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню. Бог весть буду ли иметь время заниматься, и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Качановского. Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Чорт меня догадал бредить о щастии, как будто я для него создан. Должно было довольствоваться независимостью».
Со скромной гордостью Плетнев говорил, что был для Пушкина другом, поверенным, издателем и кассиром. Ему посвящен «Евгений Онегин», ни с кем, кроме московского Нащокина, не был Пушкин в зрелые годы так прост, откровенен и доверителен, как с Плетневым. Унылое письмо друга огорчило добрейшего Петра Александровича до слез. У занятого сверх головы литератора мелькнула шальная мысль: бросить все да и махнуть в забытое богом и людьми Болдино. Останавливало одно — Пушкин не терпел непрошеного вмешательства в свои дела, это позволялось — по юношеской памяти — одному Жуковскому. Если надо, Пушкин без обиняков просил своих друзей дать взаймы, защитить от журнальной травли, заступиться перед властями, секундировать на дуэли. Но непрошеного доброхота мог отбрить. Плетнев пребывал в томительной растерянности, когда пришло другое письмо, уже из Болдина, посланное дней через десять после предыдущего: