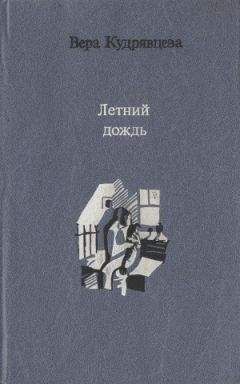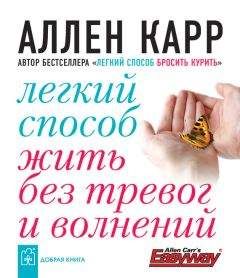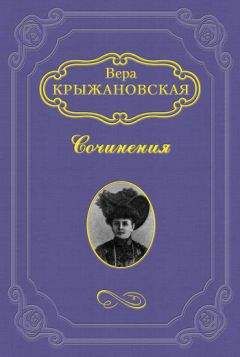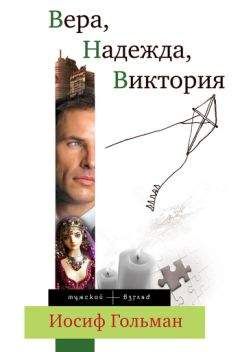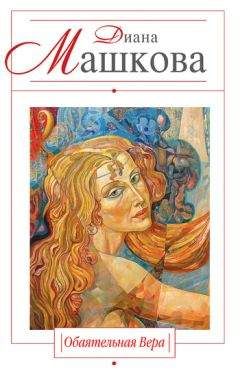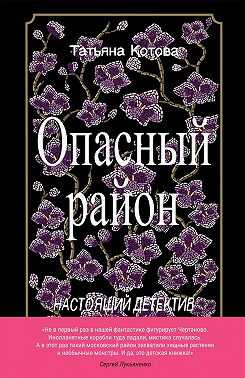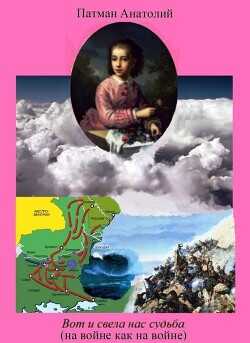Может, запустение сосняка настроило ее на такой лад. Подумалось вдруг Елене Петровне, что вот так и она живет: внешне будто все та же, а в душе копится и копится отжитое, прошлое, как хвоя в сосняке этом, пласт на пласт наслаивается. Сегодня вот копнула она самый ранний…
Елена Петровна вздрогнула: на камешке замшелом, у самых ног, пригрелась змейка. Попятилась было, да поняла облегченно — ужик это молоденький. И сразу за ребятишек, оставленных в Сосновке на баяниста Леню, испугалась. Не предупредила, а там, в тех местах, испокон веков змеи водились. Бабушка рассказывала, как раньше вместо подушек хомуты под головы подкладывали, если заночевать приходилось в лесу. За ягодами туда все ездили, на телегах. Ведрами возили землянику да клубнику. А змеи лошадиного пота не переносят. «Ох, не забыть бы позвонить завтра, а то побегут по ягоды…»
На лето, на время страды, кружки в клубе, где Елена Петровна художественным руководителем уже больше двадцати лет, работу свою прикрывали. Взрослым не до стихов, не до песен-плясок. А из школьников собирала она ладную бригаду. И все-то лето ездили они сначала по деревням, по станам полевым своего совхоза, а потом и по всему району. Как подумала Елена Петровна про ребятишек, про бригаду свою, так и поняла, почему противится все в ней сравнению жизни ее с этим сосняком. Да, копится в ее душе прошлое, только не сухой хвоей — почвой плодородной для нового, теперешнего. Ничего в жизни не проходит даром. Когда приезжает к ним в село кто из города, артисты особенно, непременно заметят: любят в их селе искусство. По глазам, мол, видно, по приему. И когда в институты поступают ребята из села, то часто не верят преподаватели, что с деревенскими пареньком или девушкой беседуют. И речь, мол, правильная, а главное — стихи. Как до этого дело дойдет, тут уж любой воспитанник Елены Петровны на своем коньке! Особенно, конечно, любят Есенина… Вот и опять к тому же вернулась. «Ах, Киношка, Киношка… Почему, значит, в уральском селе улица Есенина объявилась? Приезжай, расскажу… Только вот где слова взять, равноценные тому, что пережито…»
Мертвое место наконец кончилось, открылся травяной и такой-то баской после нежилого мрака сосняка бок горушки. А у самого этого бока побулькивала-ворковала речка. Когда-то, помнит Елена Петровна, была она рекой, да такой, что в половодье только лодками и добирались до этого берега. Лодки и посейчас рассыхаются на бывшем берегу за огородами, прорастают травой. А речка все худеет. Несколько лет назад запрудили ее выше, километров на семь-восемь, золото мыть, вот и…
Ну, ладно, как ни оттягивай, а к разговору с Ларисой Степановной, с Киношкой-то, подготовиться надо. Домой идти не хотелось: сбегутся бабы — «как там моя артистка?» да «как там мой артист?». Уже две недели как кочует ее агитбригада. Вот здесь, у речки, давнишней своей подружки, она и посидит.
Да, памятлив человек. Да и как забудешь прошлое-то, если остаются от него шрамы, царапины — следочки. Вот у нее на большом пальце правой руки, на самой косточке, небольшой, теперь уже едва заметный шрамик в виде крестика. «Шрам войны», — смеется иногда. А это и правда так. В войну ее главной обязанностью было тереть для бабушкиной квашенки картошку, ведро целое. Картофелины огромные и не чищеные, а только хорошо промытые — экономили. И тереть их оттого было труднее. Картофелина то и дело вырывалась, и рука изо всей-то силы одним и тем же незаживающим местом — по терке! Прижмет палец к губам, терпит.
— Торопыга, — пожалеет бабушка, но от терки не освободит— как же! Постоянная Еленкина обязанность! Тем более что она действительно сама виновата: торопится на репетицию в клуб, к Тане. Трет картошку, на ходики часов поглядывает и шепчет, шепчет:
Так и читала тогда: «Шаганэ ты моё, Шаганэ».
В те первые дни, когда в их селе появилась Таня, она просто помешалась на этих стихах, услышанных от нее. Даже перед иконой шептала вместо молитвы. (Она тогда молилась по деревенскому обычаю, чтобы бабушку не обидеть.)
— Эттто што еще за молитва такая? — ворчала несердито бабушка. Несердито, потому что сама накануне проштрафилась. Была у них такая легкая молитва: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!» Любили они ее за то, что три раза перекрестишься — и помолился. А бабушке уж и такую короткую молитву, видно, надоело шептать, и она, крестясь, просто считала поклоны: «Раз, два, три. — А громко и скажи: — Четыре!» Ох и смеху было!
Вот только взглянула на свой «шрам войны», а сколько людей, событий ожило в памяти. «Ожило… опять не то. Они всегда в нас живут. Одни — как совесть. Другие — как печаль. Третьи — как клятвы, обеты… А что для меня да и для других всех, кто ее знал, да ведь и для нынешних, для ребятишек, к примеру, из самодеятельности, что для нас всех Таня?» Об этом, однако, и пойдет у них завтра разговор с Ларисой Степановной.
Таня приехала в их село в начале сорок второго. Елена Петровна запомнила, потому что училась тогда в пятом классе и были каникулы. А в каникулы она целыми днями пропадала в сельсовете, потому что там в единственном книжном шкафу умещалась вся их библиотека.
После метельной недели день выдался ясный, искристый. Смотрела она в окошко на широкую улицу, похожую на дерево, какие рисуют малыши. Дорога посреди улицы — это ствол. А свежепротоптанные тропинки от калиток дворов к дороге — это ветки. И вдруг увидела в конце улицы, у вершинки то есть этого «дерева», нездешнюю девушку. Девушка подходила ближе, и вот уже и Зойка и Ефросинья Егоровна рассматривали ее в окно.
— В пальто городском, — не то восхитилась, не то осудила Зойка. — И в ботиках! В такой-то мороз! Ефросинья Егоровна, ктой-то к нам приехала?
— А ведь это, знать-то, девчонки, избач новый, ленинградку на днях в РИКе навеливали, артиску, сказывали…
— Артиска! — хихикала Зойка. — Топчется… Ну-ко, ну-ко, как ты?
Прямо у сельсовета ни раньше ни позже застряла с возом сена скотница Катька, кричала на вола беспомощно:
— Нно! Нно! Цоб-цобэ!
— Потёма, — вздохнула Ефросинья Егоровна. — Ну, никакого характеру у девки. Пойти выручать надо ле-нинградку-то. А то дорога, как туннель в снегу, ни пройти ни проехать!
— Никак не насмелится! — комментировала Зойка. — Топчется!
Ох, как рассердилась на Зойку Елена Петровна, тогда, конечно, просто Еленка.
— Снимай! — ухватилась за ее валенок. — Снимай!
— Ты что? Ты что? — Зойка говорила не «што», а «что», как пишется.
— Зачтокала! Снимай, говорю, ей вынесу! Ленинградке!
— Да сдогадалась она уже! Обошла! Вон! Полны ботинки снегу начерпала.
Девушка и правда сворачивала уже к сельсовету, а вол вдруг рванул за ней прытко, так что зазевавшаяся Катька едва не опрокинулась в сугроб.
— Глядите! Глядите, что вол-то вытворяет! Ухлестнул за ей, топает! Опять стал! Ишь что ему нравится: за городскими хлестать, скотинка!
— Нно! Нно! Цоб-цобэ! — надрывалась Катька.
— Здравствуйте, — остановилась в дверях ленинградка. — Таня я, Мухина. Меня к вам…
— Да знаем, знаем, — кинулась к ней, загремела табуреткой Ефросинья Егоровна. — Потом, потом. Вы грейтесь, грейтесь! Неужели пешком?
— Нет, меня дедушка подвез, почтальон из соседней деревни.
— A-а, Ваньша Бывальша… Тулуп-то хоть накинуться дал?
— Дал!
— Еленочка! — взглянула на нее Ефросинья Егоровна. — Принеси-ка дровец сухоньких, подбросим.
Со всех ног кинулась она в сени, а когда возвращалась с охапкой дров, услышала, как Ефросинья Егоровна хвалит ее:
— Книжки любит — хлебом не корми! От этого шкафа за уши не оттащишь…
С интересом посмотрела на нее Таня. А Зойка ревниво сказала:
— Что тут читать-то? Ни одного подходящего романа!
— А это секретарь сельсовета.
— Цоб-цобэ! Нно! — чуть не плакала за окном Катька.
— Пойти подсобить, — закуталась в платок Ефросинья Егоровна. — Вы уж извините, коровы без кормов…
— На нем раньше дядя Миша робил, — объяснила Зойка. — Он только его язык понимает.
— Не русский был? — спросила Таня.
— Вот то-то, что шибко русский! — расхохоталась Зойка. — А вы правда артистка?
— Ой, что вы! Это меня в госпитале так прозвали…
— Ффу! Маета! — вернулась Ефросинья Егоровна. — Упрется и ни с места! Вот упрямь! Обогрелись? Ничего, приоденем вас по-нашему, по-уральски, подкормим. Хлеба, правда, тоже нет, а картошечка, молочко… И за работу! Война войной, а… Будем поднимать культуру на селе. А то у нас самый культурный человек — вот эта чтокалка, — засмеялась Ефросинья Егоровна, кивнув на Зойку.
— Им не ндравится, что я по-литературному разговариваю, — нисколько не обидевшись, объяснила Зойка. — Они хочут, чтоб я, как все: «що по що, куды шадишша?»