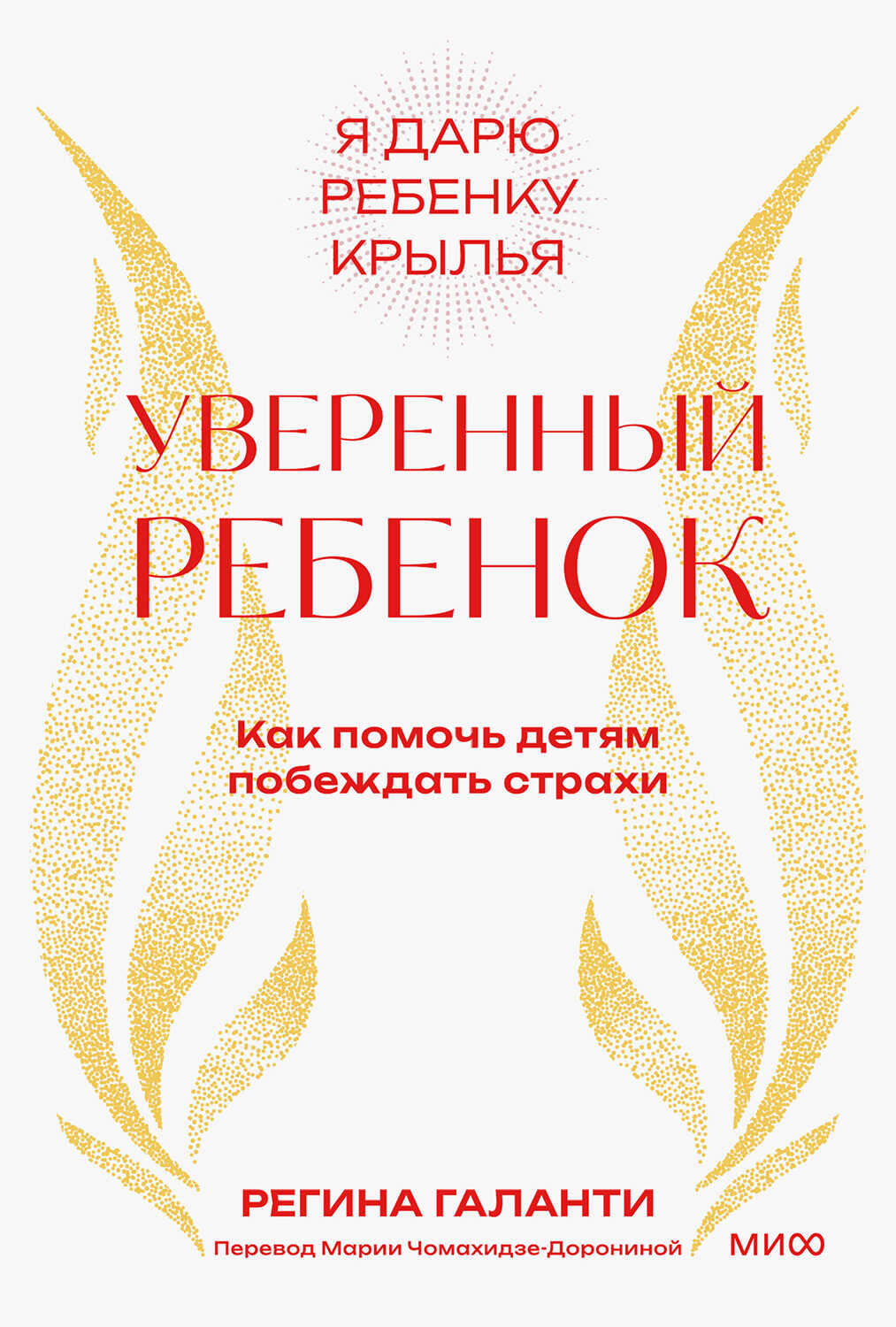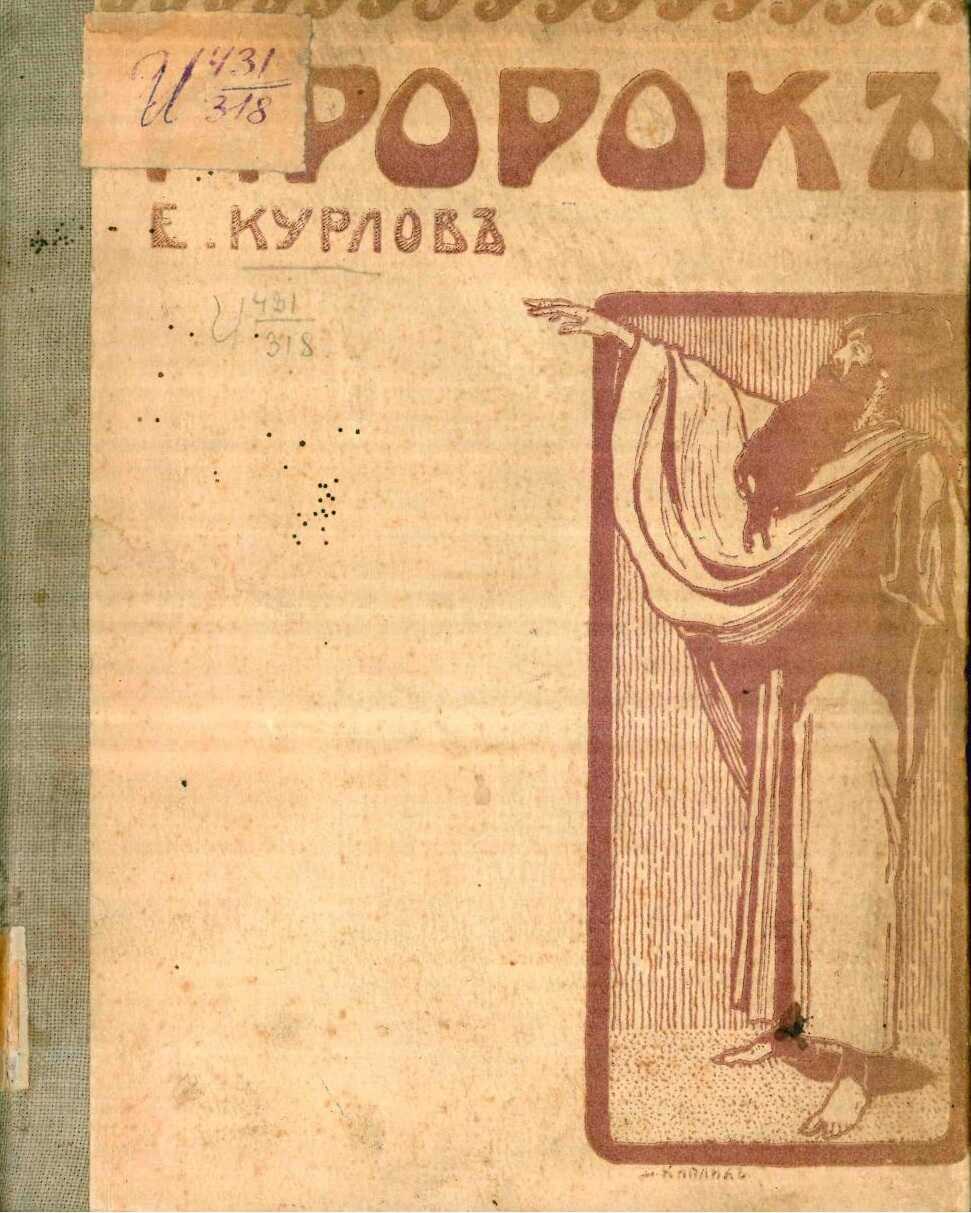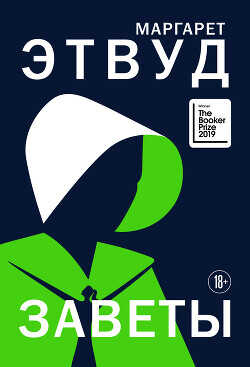— А где… этот человек?
— Он умер. То есть это глупо вышло… нет, не так… одним словом, я когда расставался с ним, надеялся опять встретиться. Было такое время. Я прожил больше года, и очень хорошо все было… Ну, я не считаю плохого по-другому: смерть брата, война. Это все мне много дало, особенно как-то. Я даже больше работал. Но все рассчитывал на проверку моих дел этим человеком, на отчет. То есть не по музыке, а по всему. Музыка ведь — плод всего, и все-таки — часть. Все ждал, что вот встречусь, погляжу только, обменяюсь взглядом и — все хорошо. Ты верил? — вот смотри, как я жил. И какое счастье! А вышло не так… Словом, я узнаю года полтора назад, что этот человек умер, и я даже не знаю хорошо, как и от чего. Может быть, и не умер?
Никита растерянно улыбнулся. Ирина отодвинулась от него.
— Это… была женщина? — спросила она.
Он ответил не сразу:
— Да, женщина.
Она молчала. Он пристально рассматривал ее с ног до головы и вдруг с горячностью добавил:
— И вы на нее страшно похожи, Ирина!
Она быстро отвернулась.
— Ну?
— Этого вы могли бы не говорить! — расслышал он сдавленный голос.
— Ирина! Что такое? Вы… Ну, ради бога, Ирина!
— Пожалуйста, не вздумайте, что я обиделась на ваше сравнение. Не воображайте.
Вдруг, круто обернувшись, она уставилась на него в упор. В глазах у ней блестели слезы, голос ее обрывался, она делала страшные усилия, чтобы сдержать себя.
— Я вовсе не обижаюсь. И не за что обижаться. Мне просто стало жалко эту вашу… вашего друга… И даже совсем не ее… не его!.. А мне жалко вас, что вы… заставляете себя жалеть… когда вы должны быть сильный, сильный, сильный!
Она выкрикнула последние слова, пристукивая кулаком по скамейке, и снова резко отвернулась от Никиты.
Подняв брови, Никита долго смотрел на нее, удивленный и точно обрадованный. Потом он притронулся к ее руке.
— Я не жаловался, Ирина. Я хотел объяснить. И вовсе не нужно жалеть. Я уже научился ценить жизнь со всеми утратами. Ведь это тоже жизнь — утраты. И я знал, что без них я не был бы тем, чем должен быть. Я понимал их. Понимаете? Но ведь…
Он наклонился, чтобы увидеть лицо Ирины, попробовал повернуть ее к себе, крепче взяв за руку.
— Но ведь это мало — одни утраты. И нужно иметь еще что-нибудь. Все равно, как назвать это, — радость, участие, любовь. Я об этом и говорил. Такое чувство, чтобы постоянно был уверен, что ты необходим и твое дело, твой труд так же необходимы, как твоя жизнь. Вот…
— Вы точно просите о таком чувстве, — быстро перебила Ирина. — Чтобы у вас такое чувство было.
Она опять повернулась к Никите.
— А вы должны требовать! Понимаете! Требовать! — воскликнула она. — Потому что вы такой человек, такой… который… вы сами не знаете, какой вы. И вы не смеете просить! Вы сами избегаете всех, а потом говорите. А вас все любят. Не возражайте, пожалуйста, — я знаю! Вы ничего не видите и не понимаете. Папа вас ужасно любит, и… И вообще…
Она выпалила всю эту кучу слов одним духом, жарко, торопливо жестикулируя. Дыхание ее было коротко, часто. Никита снова вспомнил об Анне — Анна, совершенная Анна! — и засмеялся.
— Ничего смешного нет, — оборвала его Ирина. — Если бы вы действительно искали… ну, как это? Поддержки или… вообще то, о чем вы говорили, то давным-давно нашли бы.
— И мне не пришлось бы далеко ходить? — спросил он ласково.
Она промолчала.
— Ну, давайте подружимся, — сказал он.
— Я не хочу, чтобы вы так… И вы не должны смеяться, не должны! Я говорю совершенно серьезно, и вы не смеете издеваться. Пойдемте.
— Ирина…
Она встала и пошла прочь, по аллее. Он поглядел ей вслед: Анна перед ним шла, Анна. Он не мог удержаться, чтобы еще и еще раз не повторить это имя, и бросился за Ириной. Он взял ее под руку и прошел несколько шагов молча, огибая сад по круглой аллее вдоль решетки.
Порывом ветра распахнуло пальто Ирины, и подол ударил Никиту по коленке. Он с физической остротой припомнил далекое, счастливое чувство, с каким он шел рядом с Анной по набережной Эльбы, против ветра, в молчании, ощущая в своей руке сквозь материю тонкую округлую руку Анны. Он сильнее сжал локоть Ирины.
Она взглянула на него, и губы ее дрогнули.
— Значит — мир? — спросил тихо Никита.
— Я не думала сердиться или обижаться. На вас вообще нельзя обидеться, потому что вы… все делаете так, как надо, и просто не понимаете меня. И себя.
— Поверьте — понимаю, и вижу, что…
Она не дала ему договорить.
— Погодите. Я хотела сказать, что я знаю, как вам трудно. И это должно. И я тоже это знаю. Но, по-моему, в жизни самое приятное — достигать. Когда задумаешь и сделаешь. И вы должны скорее сделать.
— Вы мне могли бы помочь?
— А что вы думаете? Я — сильная! — убежденно воскликнула Ирина.
Он остановился от изумления. Ирина говорила как взрослый, но почему она казалась ему ребенком? И почему ребенок в ней волновал его больше, чем взрослый?
— Ну, что? — спросила она, не понимая, зачем он остановился.
— Я вижу, что вы — сильная, — проговорил он медленно. — Поэтому я и сказал…
Но она опять задорно прервала его:
— И ничего особенного нет. И вообще… вы напрасно мне говорили об этом… обо всем… Я и без сравнений поняла бы, чего вам не хватает… Не провожайте меня, я хочу пойти одна. Нет, нет, не провожайте, пойду одна!
Она лукаво помолчала и договорила нараспев:
— Я хочу подумать о вас, а вы мешаете. До свидания. Ступайте, я не хочу, чтобы вы смотрели на меня.
Он сжал ей руку и повернулся, но Ирина остановила его внезапным громким смехом:
— Как вы похожи на папу! Ха-ха-ха! Ну, точь-в-точь! И такой же сутулый, и такой же смешной!
Она побежала через дорогу, все еще смеясь, потом обернулась и крикнула:
— Не сердитесь! Вы — милый! Приходите скорей, я жду!..
На одну секунду Никите сделалось обидно и горько. Он выпрямился. Неужели и правда он похож на брата? Возможно ли, что он так постарел? И не потому ли Ирина казалась ему ребенком?
Но в следующий момент его наполнил приток обновленного, жизнерадостного здоровья, и торжествующий звон меди, который незадолго он слышал в зале, зазвенел в его памяти.
Он вернулся в сад и сел на скамью, расстегнув пальто. Но нет, он не мог сидеть. Он встал. По пустынной аллее, между оживавших деревьев в запахе оттаявшей земли, овеянный этим свежим, жирным запахом, Никита быстро сделал два круга. Но нет, он не мог, ему не хотелось бродить бесцельно. Он вышел из сада, миновал Михайловскую и вскочил в трамвай. Он думал обогнать Ирину и еще раз взглянуть на нее. Как школьник после первого свиданья, он хотел увериться, еще один раз увериться, что свидание действительно было.
На углу Литейного он долго ждал Ирину, но напрасно.
В праздничной толпе ему попалась на глаза большая круглая голова матроса, показавшаяся знакомой. Он пристально вгляделся. Тогда матрос, по случайности, встретил его взор и тоже со вниманием начал рассматривать Никиту, стараясь что-то припомнить. Шумная ватага вскоре оттеснила их друг от друга, и Никита решил, что это был один из матросов, так поразивших его на концерте. Но лицо матроса на минуту обеспокоило его и несколько раз промелькнуло в памяти, как слово, смысл которого тщетно вспоминается. Потом мимолетная встреча забылась.
Никита выбрался из толпы на Фонтанку и пошел домой, довольный, подчиненный чувству легкости, в каком протекал день.
Войдя к себе в комнату, он сбросил пальто, постоял в раздумье и вдруг улыбнулся. Он отыскал столовый нож и, забравшись на подоконник, усердно принялся отскабливать замазку от зимней оконной рамы.
Нет, право же, иной раз неизвестно почему приходит грусть. Казалось бы, — все хорошо. Обычно и без волнений прошел день. Усталость не очень велика. Нет никаких особо спешных дел, а те, что есть, не требуют ни напряжения, ни сил. Уж несколько недель — а может быть, и месяцев — не случилось ни одного несчастья, которое напомнило бы о том, что скоро твой черед — болеть, прощаться с близкими, уходить. Все хорошо. И вот…
Вот доктор Карев, Матвей Васильич. Вот в сумерки он возвратился из больницы, вошел в переднюю, спросил:
— Не ждут?
Нет, на этот раз в приемной ни души, никто не ждет. Прислуга помогает Матвею Васильичу раздеться, стащить калоши (задник снялся, но вытащить носок без помощи нельзя, — калоша гнется).
— Протекает, мокрая, — говорит прислуга, подымая калошу подошвой кверху, повыше, чтобы видел доктор.
— Разве? — удивляется он. — Надо новые.
Он вытирает платком усы, достает папиросницу, закуривает, идет к Ирине.
Комната дочери пуста. Сумерки неслышным потоком вливаются с улицы. Матвей Васильич различает постель, раскрытую книгу на столе, мохнатого белого сибирского кота, свернувшегося калачом около печки. Кот спрятал морду под хвост.








![Кармилла [сборник] - Джозеф Шеридан Ле Фаню](/uploads/posts/books/421995/421995.jpg)