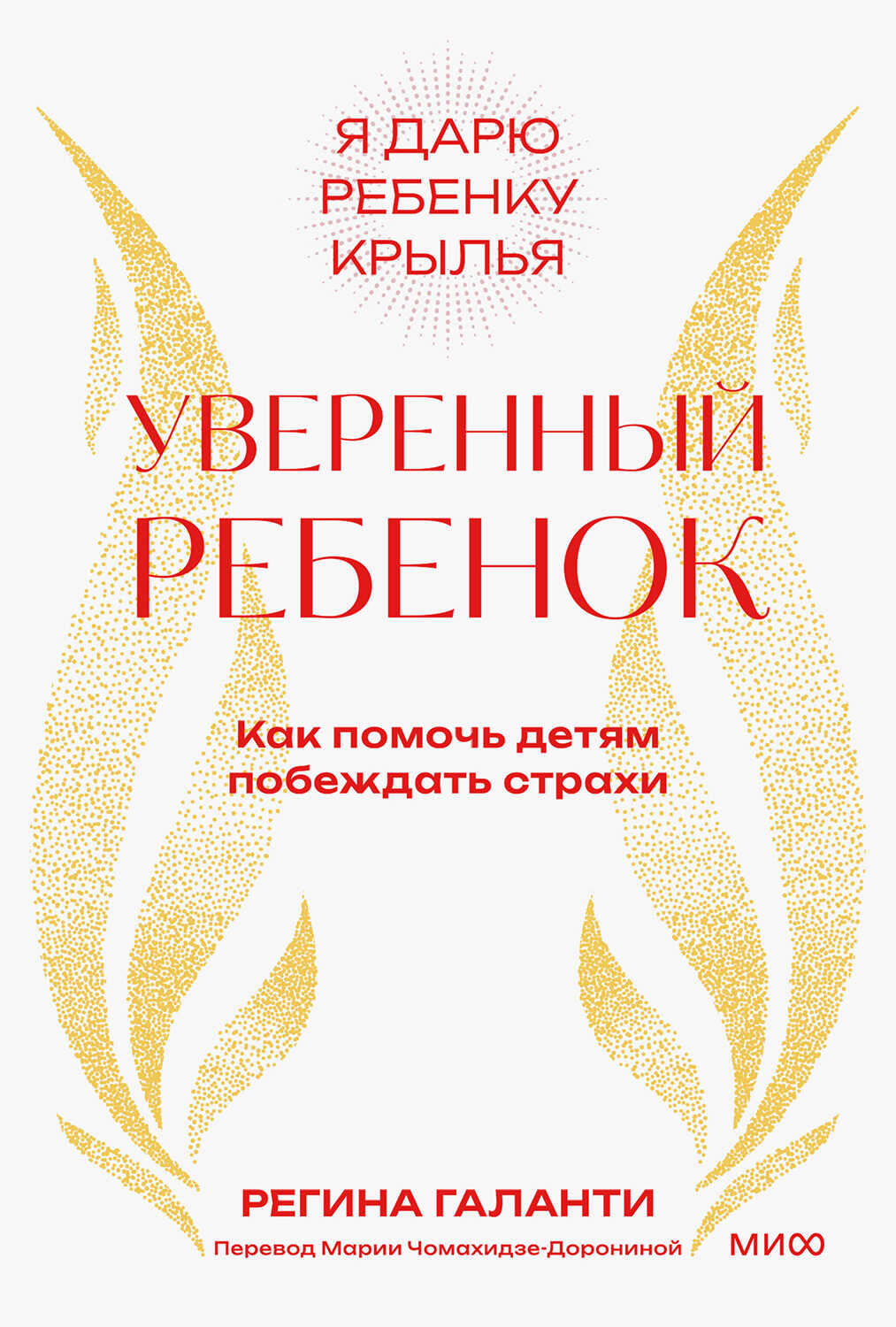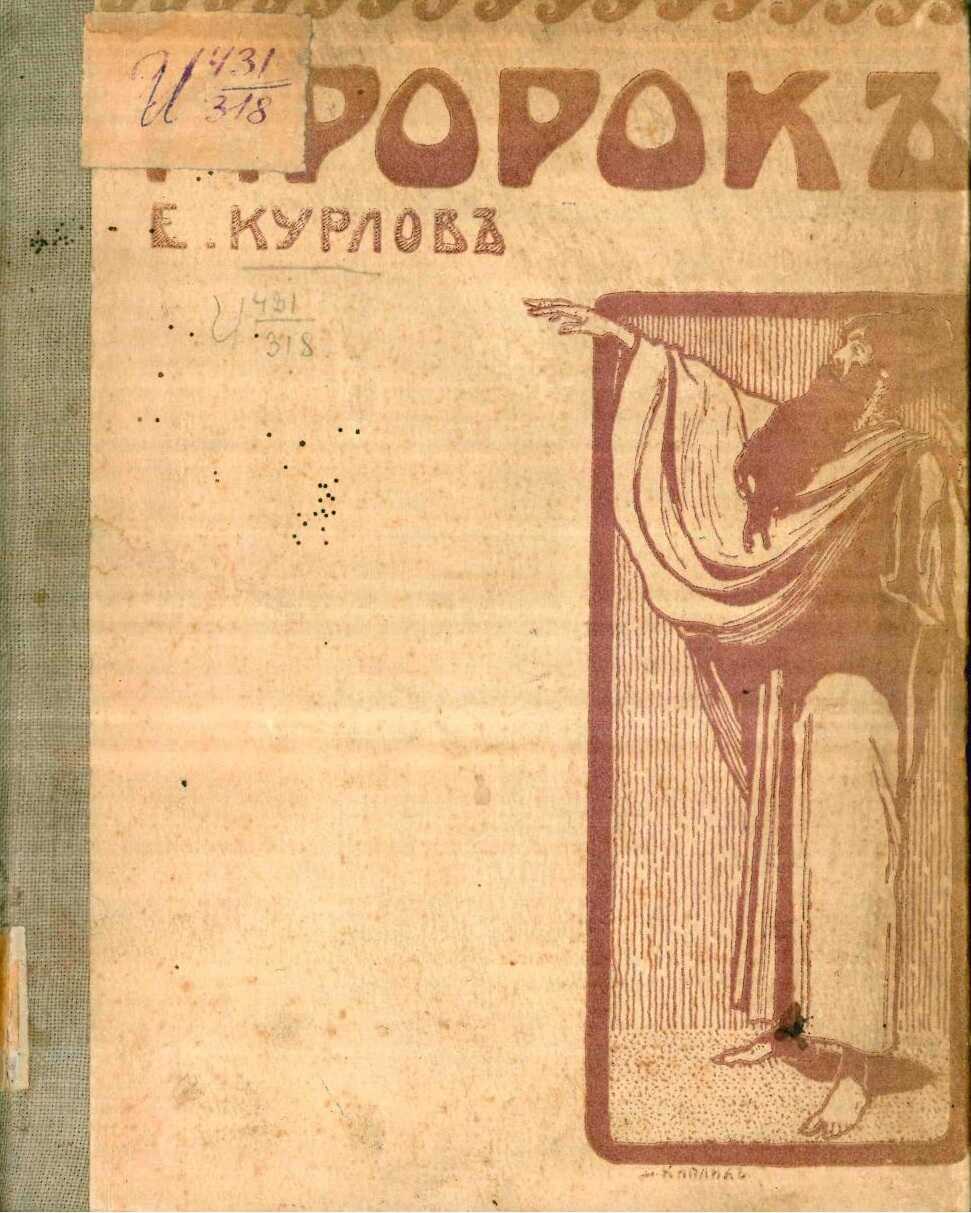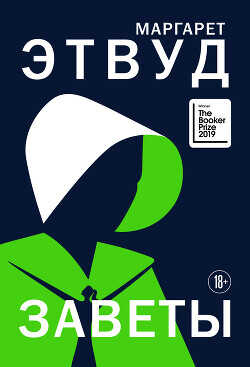Я обнаружила на своем столе, кроме тонны роз от Шабея, семь рукописей, которые надо будет прочитать. Значит, Брютиже желает мне добра. Когда у нас с ним прохладные отношения, то чтения хватает только для его миловидных мальчиков; когда же моя стопка возрастает, то это значит, что я ему нужна. Интересно, для какого такого темного дела?
Пролистав двадцать страниц, я почувствовала, что мои веки тяжелеют. Ни неведомым шедевром, ни подарком рукопись назвать было нельзя. Между плохо напечатанной белибердой и мной вставал образ мамы, всегда один и тот же: в белых брюках и черной майке, на острове Ивиса, на террасе, через два года после моего рождения. Вопреки здравому смыслу, я уверена, что все хорошо помню: и ее, одетую таким образом, и музыку, и друзей, которые там были, тогда как на самом деле речь идет всего лишь о часто виденной фотографии. Но на фотографии — или в моих воспоминаниях — у мамы, вместо сияюще молодой внешности было сегодняшнее лицо с его скрытой грустью и снисходительным взглядом. Брютиже просунул в дверь голову: «Похоже, тебя не волнуют, моя маленькая Кло, откровения красавицы Мартинез…»
Хотя меня все называют на «ты» («ты стала частью обстановки…»), тыканье Брютиже выводит меня из себя.
Недомогание, которое ей все раскрыло и которое Клод от нас скрыла, случилось в марте. Я был в Лондоне, Ив и Жозе-Кло — в горах: никаких свидетелей. Обморок на улице Нейи. Скорая полицейская помощь привезла Клод в общий зал полуразвалившейся больницы, где лежат в тесноте больные, подобранные на улице. Бодуэн-Дюбрей выдавал мне все это нехотя обрывками. К счастью, Клод известила именно его: три часа спустя после того, как ее подобрали на тротуаре, она уже лежала в отдельной палате его больницы, и началось обследование. Когда мы неделю спустя все вернулись, Клод была уже дома, чуть печальная. «Тяжелая форма гриппа…». Бодуэн, чета Шабей, Артюро и Жасента, — все решили молчать или врать, все оказались в заговоре с Клод. Только Жозе-Кло почуяла что-то. Может, из-за постоянно включенного автоответчика? Я — ничего. Это ослепление — иная форма эгоизма — поражает меня не меньше, чем болезнь Клод.
Я не ощущал никакого серьезного беспокойства. Может быть, потому что мы не совсем безоружны перед опасностями, которые мне описывает Бодуэн? Дисциплина, режим, предосторожности: годы идут, это становится укладом жизни. Ничего похожего на страшную пропасть, разверзшуюся передо мной, когда Клод во время обеда начала говорить. Шок, падение. «Неужели это происходит с нами? Неужели это приходит вот так?» Правда показалась мне почти успокоительной. У нас впереди много трудностей, но у меня есть навык. Все, что я делал в этой жизни, я делал медленно, по-крестьянски. Даже когда мне очень повезло с первой книгой Жиля — та удача была совсем не в моем стиле и ее не оправдывали никакие мои заслуги, — я использовал это везение терпеливо, как ремесленник. За три года я стократно окупил рекламные расходы на «Ангела» и на легенду Леонелли. Я, конечно, не вылечу Клод, но я сохраню ее среди нас, помогу ей остаться такой, какая она есть, хрупкой, коль скоро они так говорят, но нерушимой. Я этого хочу, я этого хочу всеми ресурсами моей энергии и я всегда добивался того, чего я так хотел. «Двадцать пять процентов химии, семьдесят пять процентов силы воли», согласно Бодуэну. Я ему сказал, чтобы он занимался химией и предоставил мне все остальное, сказал, что воли у меня хватит. «Я знаю», — ответил он мне. Ответил странным голосом.
— И что?
— Не забывай думать о воле Клод. Мишенью является она, а не ты…
Теперь можно перевести дух. Как при грозе, когда она удаляется и на смену грому приходит журчание дождя. Я пошел в «Альков» и включил над дверью маленькую красную лампочку. Луветта меня не потревожит. Двойные стекла, обитая звукоизолирующим материалом дверь. Ветви акации, которые мне не хочется обрезать, касаются иногда моих окон: ее листья волнующе свежи. Заметил бы я их десять или пятнадцать лет назад? Нас ждут совершенно отличные от прежних, первые в своем роде весна и лето; надо будет придумать, как их прожить наилучшим образом. Я думаю не только о здоровье Клод и не о том, что изменится из-за ее болезни в ритме нашей жизни, а о том, предвестием чего является этот знак. Освещение слишком ярко, а встреча таинственна. Вот-вот появятся трещины, щели, все то, что прятали скорость, тщеславие, праздник, декорация. Мне нравится пренебрежение, с которым архитекторы говорят: «Это декорация» об украшениях, которые маскируют какой-нибудь недостаток здания. Огромная часть удач и в самом деле принадлежит «декорации». Теперь мы увидим, как сопротивляется невзгодам остов.
Мои первые четверть века, моя предыстория как бы спали с меня. Мое детство — это не мое детство, а кого-то другого, протекавшее в другом мире. Моя учеба осталась у меня в воспоминаниях как что-то нереальное или глупое. Не говоря уже о нищете. В двадцать лет я испытал голод и хотел не только хлеба. Я не жалел суровых слов, чтобы высмеять мою мать, которая до потери сил торговалась на черном рынке из-за нескольких кусочков мяса нам на обед. В 1943 году меня отправили в Сен-Жени-Д'Арв с дырявым от чахотки легким. Попав туда, я жил с единственной отчаянной мыслью: выздороветь. Выйти оттуда. А шесть месяцев до этого я крал книги; зимой мне приходилось красть яйца, пироги. Все это усложняла страшная бедность. Да, бороться с трудностями — это мне знакомо!
Моя жизнь начинается весной 1944-го, когда я почувствовал, что рождаюсь вновь. Я сам себе дал эту новую жизнь, я ее вырвал из водоворота отчаяния и накала страстей, которые превратили туберкулезный санаторий в кульминацию моих испытаний. Лучшие из лучших там сгорали, позволяли смерти взять над собой верх. Нас там было триста человек, студентов и молодых преподавателей, избавленных болезнью от необходимости быть героями, живших в мире, который разлагался вокруг нас. В двух часах ходьбы вверх по склону от санатория была чащоба, маки. Мы соблюдали в своих ячейках «режим лечения», долгую ежедневную неподвижность, с одеялом, натянутым до подбородка, лицом к горе. Гора, где молодые мужчины нашего возраста готовились встретить смерть. У нас в головах перепутались тогда все чувства: беспомощность, страх, ярость, холодное упорство. Скученность одинаково способствовала и любви, и отчаянию. В Сен-Жени многие с большим или меньшим успехом пытались свести счеты с жизнью. В мае 1944-го двое из наших врачей в сопровождении нескольких мнимых больных ушли к партизанам. Медсестры ухаживали за нами с чувством, похожим на снисходительность, как по крайней мере нам это казалось. В знаменательный день высадки я должен был пройти последнее продувание моего пневмоторакса. Практикант в момент процедуры думал совсем о другом: над моей головой перекрещивались разговоры, в которых я не участвовал. Врачи поставили меня на ноги шесть месяцев спустя, в декабре. Кажется, я был особым случаем, образцовым больным. Сестры прозвали меня «семинаристом»…
Далеко, далеко все это. Зарыто под годами работы, здоровья, праздников, забвения. Жозе-Кло только этим летом узнала, что я провел двадцать два месяца своей жизни в туберкулезном санатории. Словосочетание, отсутствовавшее в ее словаре. Лишь после того, как она собралась прочитать «Волшебную гору» Томаса Манна и «Силоам» Поля Гадена, она решилась задать мне вопросы и узнала про тот важный период моей жизни, про тот сон наяву, про ту мою неопалимую купину, без которой все в моей жизни пошло бы совсем по-другому.
Гудение домофона: Луветта уходит обедать. Тишина «Алькова» становится еще тоньше. Стоя у окна, я вижу, как уходят секретари, потом Танагра, как два кладовщика усаживаются на солнышке со своими бутербродами, как своей танцующей походкой пересекает двор Брютиже в сопровождении Элиасена, чьи таланты открываются ему на этой неделе. Опустев, Издательство становится более привлекательным. Я проскальзываю внутрь. У меня нет никакого желания на кого-либо натыкаться. За каких-нибудь несколько часов разногласия обострились и взаимные недоразумения, в которых я ничего не понимаю, отравляют отношения. Ив осаждает меня, Брютиже меня избегает, Танагра вздыхает, Боржет затаился: ничего не стоящее дело всем кружит головы. Сотню раз я отказывался от подобных проектов, безвкусных и мелких, и команда пела со мной в унисон, потому что выбор был очевиден. И он не менее очевиден и сейчас, когда все пищат на разные голоса. Что касается писков, то я к ним давно привык. В жизнеспособном издательстве даже слова одобрения произносятся с недовольным видом. Я знаю, что, закончив рабочий день, какая-нибудь из моих пресс-атташе вполголоса поносит книги, за похвалу которым она получает зарплату, что Брютиже поочередно оплакивает то мое безразличие к литературе, то мое пренебрежительное отношение к деньгам, что Танагра за столиком у «Липпа» пытается всех убедить, будто без него ЖФФ давно бы уже стал неплатежеспособным. Время от времени до меня доходит эхо этих нежностей. Я о них тотчас же забываю. Люди таким образом берут реванш за свою робость подчиненных. Ими овладевает безумное желание послать все к черту. Я об этом не догадывался до тех пор, пока у меня не появились сотрудники, служащие, люди команды, которых я то и дело с чувством горького восхищения ловлю на разного рода мелких предательствах. Однако не надо ничего воспринимать трагически. Это же, наверное, ужасно скучно — не быть хозяином! Я мысленно способен понять тот зуд, от которого они все изнемогают. Вот только в эти дни на улице Жакоб чешутся слишком уж сильно.
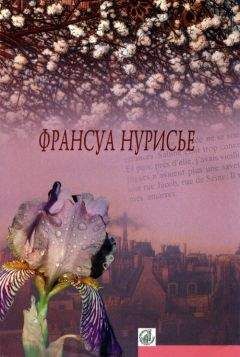
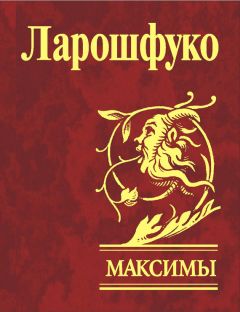

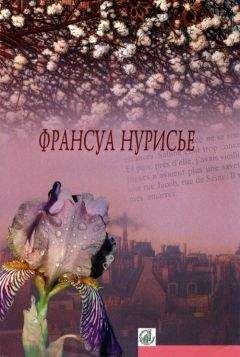
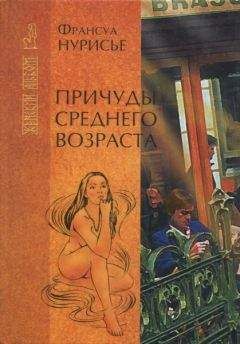
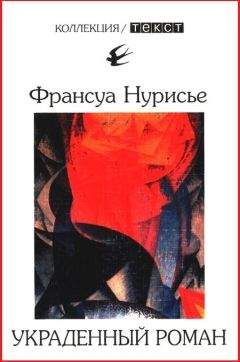



![Кармилла [сборник] - Джозеф Шеридан Ле Фаню](/uploads/posts/books/421995/421995.jpg)