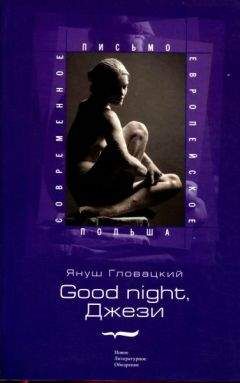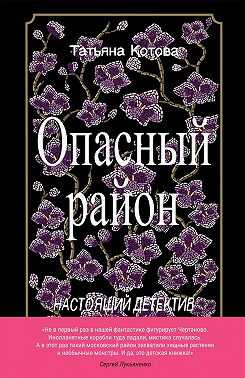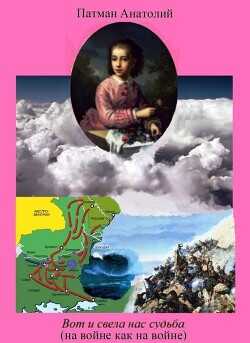— Ты.
— Кто еще?
— Не знаю. Идем в машину. И не целуй меня, противно, обслюнил всего.
— Fuck, shit! Боже! Господи, откуда ты узнал?
— Не скажу. Поворачивай, твою мать… Машина! Тебя арестуют.
— А мне насрать. Когда будет известно?
— Скоро… что ты делаешь?! — кричит Харрис, потому что Джези расстегивает ширинку.
— Я должен отлить, сию же минуту.
— Здесь?
— Иначе обоссусь.
Расталкивая прохожих, пробивается к стене и начинает отливать. Но на Кристофер-стрит это не такое уж редкое явление. И водители, и пешеходы, и влюбленные парочки, и мужчины-проститутки добродушно смеются, а один, чудовищно накаченный, свистит, с улыбкой хлопает Джези по плечу и спрашивает:
— Подержать тебе его, брат?
— В следующий раз, брат… Боже, какое облегчение. Я протянул руку Богу, а он мне подал свою. — И вот уже оба бегут к машине.
— Если тебя кто-нибудь сфотографировал…
— Плевал я.
— Попробую уговорить Стивена, пусть пригласит тебя в свое шоу.
— Плевал я на Стивена. Если это правда, значит, стоило того.
— Что — стоило?
— Неважно. Не твое собачье дело.
— Стивен мог бы помочь. После «Оскаров» продажа подскочила, но лишняя реклама не помешает. Куда мы идем?
— Как — куда? В синагогу.
— Она уже закрыта.
И опять они едут в машине.
Уже поздний вечер, поэтому Джези в нью-йоркской ванне, про которую мы чуть не забыли, собирается с силами, готовясь к ночи. Ванна полна горько пахнущих трав. На полу стакан виски со льдом, а Джези читает «Анну Каренину» Толстого — того самого, проигравшего Сенкевичу. Звонит телефон, Джези после некоторого колебания берет трубку. Это Джоди. Джези аккуратно кладет книгу на пол.
— Ты в ванне? — спрашивает Джоди.
— Да, читаю.
— Что?
— Книгу.
— Свою?
— Нет, чужую. Минуту назад видел двор в Сандомеже. Я был маленький и куда-то бежал вместе с другими еврейскими мальчишками, нас была целая орава. Потом они остановились, один я побежал дальше. Они стояли и смотрели, а потом куда-то подевались. Тогда я взял книжку. Толстого.
— Ты мне уже рассказывал.
— Про Толстого?
— Про этих мальчишек.
— Я их часто вижу, хорошо, что ты позвонила.
— Врешь.
— Не веришь?
— Не верю.
С минуту оба молчат, потом Джоди говорит:
— Хочешь мне что-то сказать?
— Да. Ты для меня очень много значишь, возможно, даже больше всех. Когда я целую твою мохнатку и глотаю твою волшебную влагу, которая так медленно и так чудесно меняет вкус… сначала слишком резкий, потом мягкий, персиковый. Нет, не так. Пока я не могу это описать… а потом, когда ты берешь меня в рот, глубоко…
— Может, хочешь мне что-то сказать?
— Я ведь говорю.
— О’кей. Я звоню тебе последний раз в жизни.
— Самоубийство? — спрашивает Джези с улыбкой. — Нет, для портрета самоубийцы ты мне не подойдешь. Слишком много итальянской энергии.
— Убийство… Я звоню из больницы… Я убиваю тебя в себе.
Джези молчит, и довольно долго. Наконец выдавливает:
— Джоди. Я тебя ни к чему не принуждаю.
— Знаешь что, Джези… Ты недостоин того, чтобы стать отцом.
— Послушай… — отхлебывает виски из стоящего рядом с ванной стакана. — Джоди… — Но она уже положила трубку. Джези поднимает с пола книгу; руки у него мокрые, и страницы склеиваются. — Shit!
Снова звонит телефон. Джези уверен, что это Джоди.
— Послушай… — говорит он.
Но это Харрис — очень взволнованный.
— Нет, это ты послушай. Он согласен.
— Кто?
— Стивен. Ты будешь почетным гостем. То, что нам необходимо! Слышишь, кретин? Даже не скажешь спасибо?
— Спасибо, — медленно говорит Джези. — Спасибо.
— Fuck you. Работать на тебя — сущее удовольствие. — Похоже, Харрис не на шутку обозлился. Джези кладет трубку.
Снова звонит телефон.
Никто не отзывается, но Джези ждет, прислушивается.
Возможно, он и вправду видит веселую ораву еврейских мальчишек, которые бегут, опьяненные молодостью и скоростью.
По лицу его текут слезы, он прячется под воду, не отнимая трубки от уха.
Так мог бы начинаться порнографический фильм. Красивая обнаженная женщина на белом столе. Маше холодно, страшно, и она одна. Рядом что-то шипит. Маша думает, что вся эта техника, возможно, и представляет интерес, но только для здоровых. А сейчас ей страшно. Она всегда знает, если ей страшно. Потому что в такие минуты отчетливо ощущает свой мозг: он съеживается в костяной упаковке, как съеживались яички Кости, когда он залезал в холодную воду. Маша смотрит вверх на блестящий потолок: она отражается в нем нечетко, как в мутном зеркале. Но вот уже ее тело, дернувшись, приходит в движение, въезжает в трубу-гроб, который за ней захлопывается. И Маша чувствует, как превращается в машину для переваривания пищи, мочеиспускания, испражнения, и думает, что она пуста, что Бог из нее улетучился — Он не желает иметь дело с машинами. Она слышит скрежет, потрескивание, закусывает губу, думает вперемежку о смерти и о Джези, а потом о том, что Гоголя похоронили заживо. Ночью кто-то услышал под землей стук и убежал, а когда утром гроб откопали, Гоголь, вернее, его труп, лежал лицом вниз, под ногтями у него были занозы, а волосы совершенно седые. Так рассказывала мать, а аппаратура хрипит, сопит, но в конце концов все же Машу выплевывает. Потом беседа с седовласым опытным профессором, хитрецом и обманщиком, — частично по-английски, частично по-русски.
— А если я не соглашусь на операцию?
— Умрешь.
— Когда?
— Ты должна жить и не задавать дурацких вопросов.
— И все-таки — раз уж я задала дурацкий вопрос.
— Через месяц, через год, точно сказать не могу.
— Я бы предпочла подольше.
Ну и еще один вопрос, на который он ответил, прежде чем она спросила:
— Нет.
— Что — нет?
— Нельзя, до операции нельзя. Оргазм тебя убьет.
Ну и таблетки, таблетки, какие-то новые, дата следующего визита — она-то решила больше не приходить, но делает вид, что придет. Не возражает и все записывает.
Только выйдя, Маша понимает, что вошла с другой улицы, но это просто другое крыло больницы, а больница — та же самая, где они с Джези были ночью. И она поднимается на лифте на третий этаж и идет по коридору, не отвечая на взгляды больных, которых везут на процедуры и которые смотрят на нее радостно, как паук на муху. «Что, и тебя, такую молодую и шуструю, припекло?» Ну нет, она не позволит втянуть себя в больничную жизнь. И входит в ту же самую палату. На двух кроватях женщины все так же спят, укрывшись с головой, но третья кровать пуста, почему пуста, думает Маша, а сердце скачет, и ее прошибает холодный пот. Джези говорил, что еще две недели… но вот и медсестра, та же, что позавчера ночью, — узнала ее, к тому же она полька и знает русский.
— Малышка эта? — отвечает. — Выписалась утром, у нее все в порядке, было только подозрение на воспаление легких.
— Значит, у нее нет…
— Чего нет?
— Ничего, ничего, — тихонько бормочет Маша.
— Утром за ней приехали родители. Вы ее хорошо знаете? Славная девочка…
— Нет, — говорит Маша, — ничего, ничего (что еще она может сказать?)… ничего…
Ей слышится какой-то шелест, потом гул в ушах, словно перед тем, как заснуть, и остается только выбрать одно из двух: потерять сознание или взять себя в руки. Она выбрала первое, чтобы дать себе немного времени подумать.
Собачонка на рельсах (письмо Клауса В.)
Дорогой Януш!
Как договорились, сообщаю кое-какую информацию, которая, может быть, тебе пригодится, а может, и нет. Я описал события или случаи, мне самому непонятные, и поэтому разделяю твои сомнения. Итак, про то, что касается Маши. Сначала был Соломон Павлович, помнишь, зубной врач. Потом нелегальная выставка, в каком-то старом доме, предназначенном на снос. Чутье мне подсказывало, что нелегальность эта насквозь, больше некуда, легальная. Ведь дело было уже в 1981 году. Что-то там в Москве дрогнуло, хотя, подозреваю, все эти бунтари-художники были связаны с КГБ. Впрочем, возможно, я их обижаю — не все, а только половина.
Но ореол нелегальности свою роль сыграл. Страшная толчея, приятный полумрак, картины утопают в табачном дыму. Что, похоже, никому особо не мешало: главное там было — вино, водка и толпа, все восхищались, пили, обнимались, целовались, поздравляли друг друга, кричали «гениально!» и снова пили. А на стенах — восемь разноцветных физиономий Сталина в стиле Уорхола, какие-то комиксы с Лениным в стиле Лихтенштейна, огромное полотно: несколько парней с выпяченными голыми задницами; название «Будущие космонавты». Нечто булгаковское: лицо дьявола и подпись: «Воланд, приезжай, спаси, слишком много в Москве развелось сволочей». Это, кстати, было содрано с граффити на стене дома, где в «Мастере и Маргарите» жил Берлиоз, а потом Воланд. Дом этот, как ты, наверно, знаешь, кто-то купил, надписи замазали масляной краской, так что в нашем фильме их использовать не удастся. В общем, подконтрольный бунт, вопиющая вторичность, а наклейки «Продано» наверняка липовые, когда я спросил, за сколько ушел Воланд, тут же подлетел художник, сорвал бумажку и сказал, что мы можем сторговаться. Было там несколько заграничных корреспондентов, которых таскали от одной картины к другой… ладно, хватит об этом.