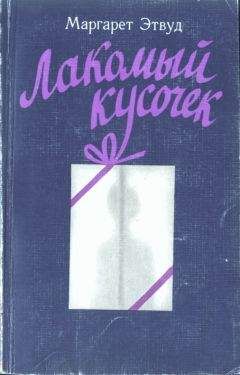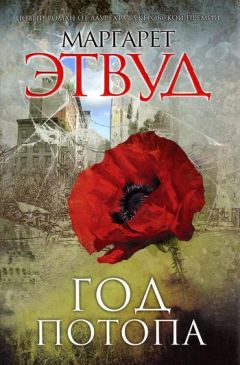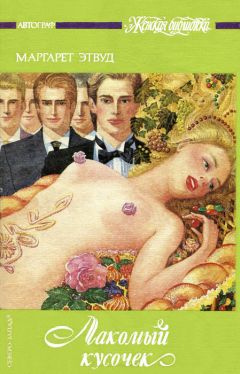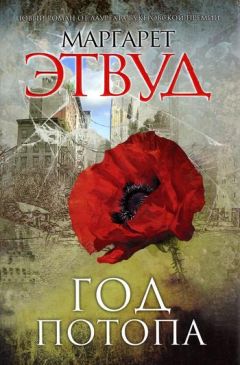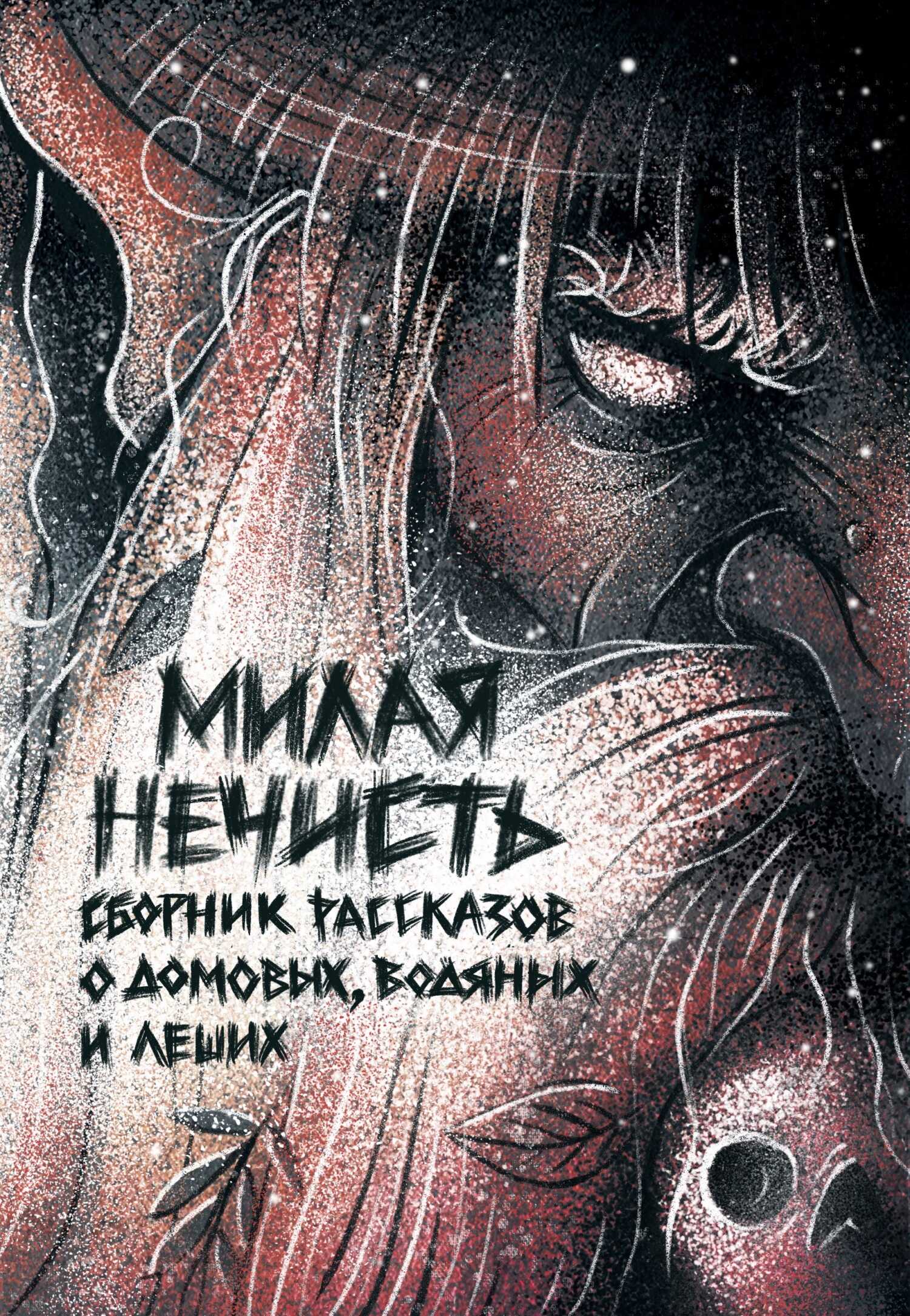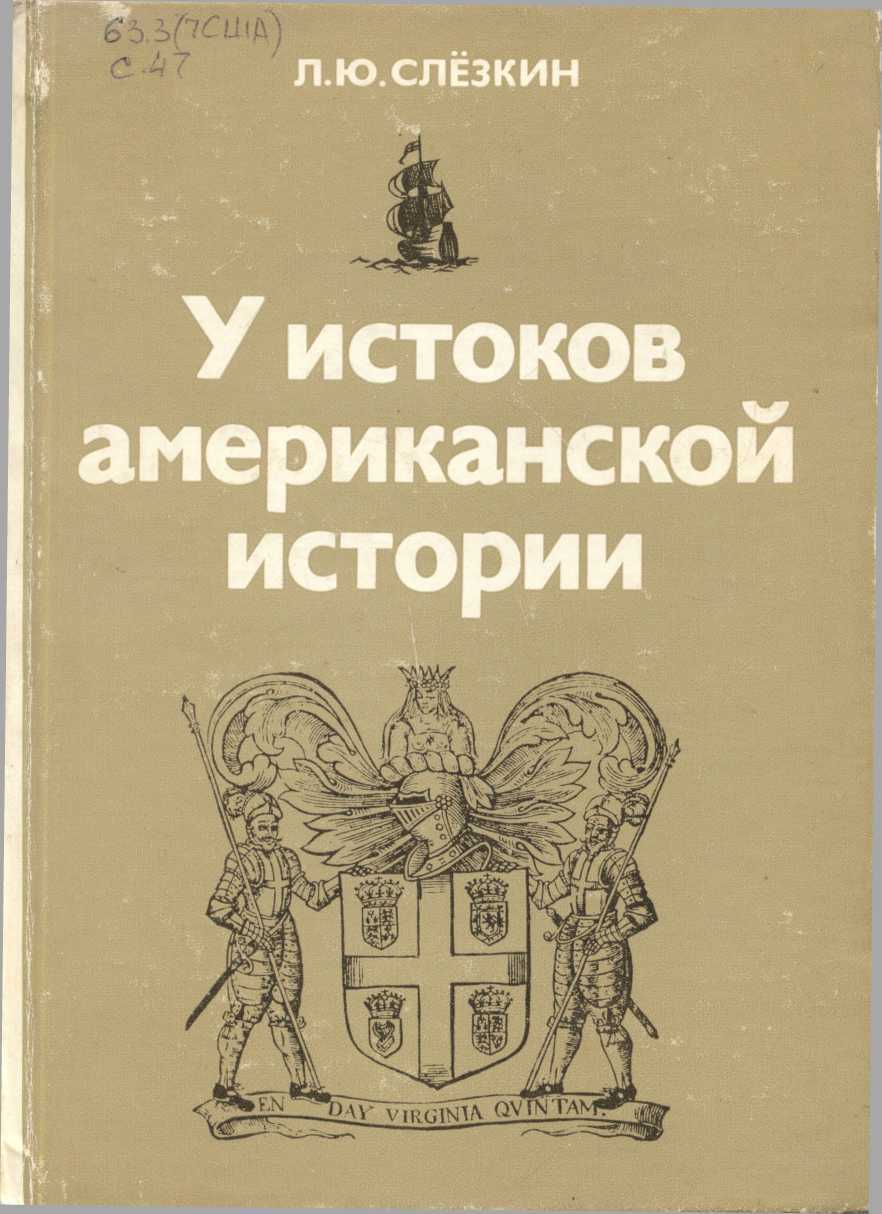– Вы хотите, чтобы я это надела? – спрашиваю я. Тон ханжеский, негодующий, я знаю. Но все-таки что-то в этой идее меня привлекает. Я и отдаленно похожего никогда не носила, столь сверкающего и театрального – наверняка это он и есть, старый театральный костюм или огрызок исчезнувшего номера из варьете; ближе всего я подходила к такому в купальниках и кружевном персиковом неглиже, которое мне однажды купил Люк. Но тряпка соблазнительна, в ней детские чары переодевания. И какое в этом презрение, какая насмешка над Тетками, как это греховно, как свободно. Свобода, как и все прочее, относительна. – Э, – говорю я, не собираясь выдавать, как мне этого хочется. Пусть думает, что я делаю ему одолжение. Вот мы, должно быть, и приблизились к его глубинному подлинному желанию. Может, у него за дверью прячется хлыст? Извлечет ли он сапоги, перегнется или меня перегнет через стол?
– Это маскировка, – говорит он. – Тебе придется еще накраситься; я все приготовил. Иначе не пустят.
– Куда не пустят?
– У нас с тобой сегодня выход.
– Выход? – Это архаизм. Ибо некуда больше выходить, некуда мужчине вывести женщину.
Выход отсюда, – говорит он. Ему не нужно говорить, что предложение рискованное – для него, но в особенности для меня; но я все равно хочу
пойти. Что угодно, лишь бы сбить монотонность, спутать внешне респектабельный порядок вещей.
Не хочу, говорю я, чтобы он смотрел, как я надеваю эту штуку; я по-прежнему его стесняюсь, стесняюсь своего тела. Он отвечает, что отвернется, и отворачивается, и я снимаю туфли, и чулки, и хлопковые панталоны, и в палатке из собственного платья натягиваю перья. Потом снимаю платье и сую руки под бретельки в блестках. Туфли тоже есть – сиреневые, с абсурдно высокими каблуками. Ничего не подходит идеально – туфли великоваты, чуточку жмет в талии, но сойдет.
– Ну вот, – говорю я, и он оборачивается. Я стою как дура; мне хочется посмотреть на себя в зеркало.
– Очаровательно, – говорит он. – Теперь лицо.
У него есть только губная помада, старая, размазанная и пахнущая химическим виноградом, плюс карандаш для глаз и тушь. Ни теней, ни румян. Какую-то секунду я боюсь, что не вспомню, как все это делается, и при первой попытке укротить карандаш получаю черную кляксу на веке, словно подралась; но я стираю ее растительным кремом для рук и начинаю заново. Втираю немножко помады в скулы, массирую. Пока я этим занята, он держит передо мной большое посеребренное ручное зеркало. Я видела такое у Яснорады. Вероятно, он позаимствовал в ее комнате.
С волосами ничего не сделаешь.
– Великолепно, – говорит Командор. Он уже ощутимо возбужден; мы точно собираемся на вечеринку.
Он идет к шкафу, достает накидку с капюшоном. Светло-голубую, для Жен. Очевидно, тоже Яснорадину.
– Натяни капюшон на лицо, – велит он. – Постарайся не размазать макияж. Это чтобы заставы проехать.
– А мой пропуск? – спрашиваю я.
– Не беспокойся. У меня есть. И мы отправляемся.
Мы вместе скользим по темнеющим улицам. Командор держит меня за правую руку, словно мы подростки в кино. Я плотно завернулась в небесно-голубую накидку, как полагается приличной Жене. В тоннеле капюшона я вижу затылок Ника. Фуражка прямо, спина прямая, шея прямая, он весь очень прямой. В позе его неодобрение, или мне мерещится? Знает ли он, что на мне под накидкой, он ли это раздобыл? А если так, злится ли он, или вожделеет, или завидует, или вообще ничего? У нас есть нечто общее: нам обоим полагается быть невидимками, оба мы – люди-функции. Понимает ли он? Когда он открывает дверцу Командору, а следовательно, и мне, я пытаюсь поймать его взгляд, заставить его посмотреть, но он меня будто не видит. Отчего бы нет? У него благодатная работа – небольшие поручения, небольшие одолжения, – он не захочет подставиться.
На заставах никаких проблем, все происходит так, как и предсказывал Командор, невзирая на тяжкий грохот, на давление крови в голове. Ссыкунишка, сказала бы Мойра.
После второй заставь; Ник спрашивает:
– Сюда, сэр? – и Командор отвечает: – Да.
Машина притормаживает, и Командор говорит:
– А теперь мне придется попросить тебя лечь на пол.
– На пол? – спрашиваю я.
Нам нужно миновать ворота, – поясняет он, будто мне это о чем-то говорит. Я пытаюсь спросить, куда мы направляемся, но он отвечает, что задумал сюрприз. – Жены не допускаются.
И я прижимаюсь к полу, машина снова движется, и несколько минут мне ничего не видно. Под накидкой душит жара. Зимняя накидка, не хлопковая летняя, и пахнет нафталином. Очевидно, ом стибрил ее в кладовке, зная, что Яснорада не заметит. Он заботливо сдвинул ноги, чтобы мне осталось больше места. Тем не менее лбом я упираюсь в его сапоги. Я еще никогда не приближалась настолько к его сапогам. Они жесткие, настороженные, как насекомые панцири: черные, гладкие, непроницаемые. К ногам отношения не имеют.
Мы проезжаем очередную заставу. Я слышу голоса – безличные, почтительные, и окно электрически отъезжает вниз и вверх – показаны пропуска. На сей раз он не показывает мой пропуск, тот, что вместо моего, – формально я пока не существую.
Затем машина едет, а затем снова останавливается, и Командор помогает мне встать.
– Теперь быстрее, – говорит он. – Это черный ход. Ник возьмет накидку. В обычное время, – говорит он Нику. Значит, такое он тоже делает не впервые.
Он помогает мне снять накидку; дверца машины распахнута. Почти голую кожу гладит воздух, и я понимаю, что вспотела. Обернувшись, чтобы захлопнуть дверцу, я вижу, как Ник смотрит на меня через стекло. Теперь он меня видит. Что это – пренебрежение, равнодушие, этого он от меня и ожидал?
Мы в переулке за домом из красного кирпича, довольно современным. У двери – батарея мусорных баков, пахнет прогорклой жареной курицей. У Командора ключ от двери – серой, простой, она сливается со стеной и, по-моему, стальная. Внутри – бетонный коридор, залитый флуоресцентным потолочным светом; какой-то служебный тоннель.
– Сюда, – говорит Командор. Нацепляет мне на запястье лиловую бирку на резинке, как для багажа в аэропорту. – Если кто-нибудь спросит, скажи, что арендована на вечер. – Он берет меня за голое плечо и подталкивает вперед. Я хочу зеркало, посмотреть, не размазалась ли помада, нелепы ли перья, неряшливы ли. В таком свете я, должно быть, вылитый жмурик. Впрочем, теперь уже поздно.
Идиотка, говорит Мойра.
Мы идем по коридору, через вторую плоскую серую дверь, по другому коридору, тускло освещенному и с ковром грибного цвета, розово-коричневым. В коридоре двери с номерами: сто один, сто два, как будто считаешь в грозу, вычисляешь, насколько молния промахнулась мимо тебя. Значит, гостиница. Из-за одной двери доносится смех – мужской, но еще и женский. Как давно я этого не слышала.