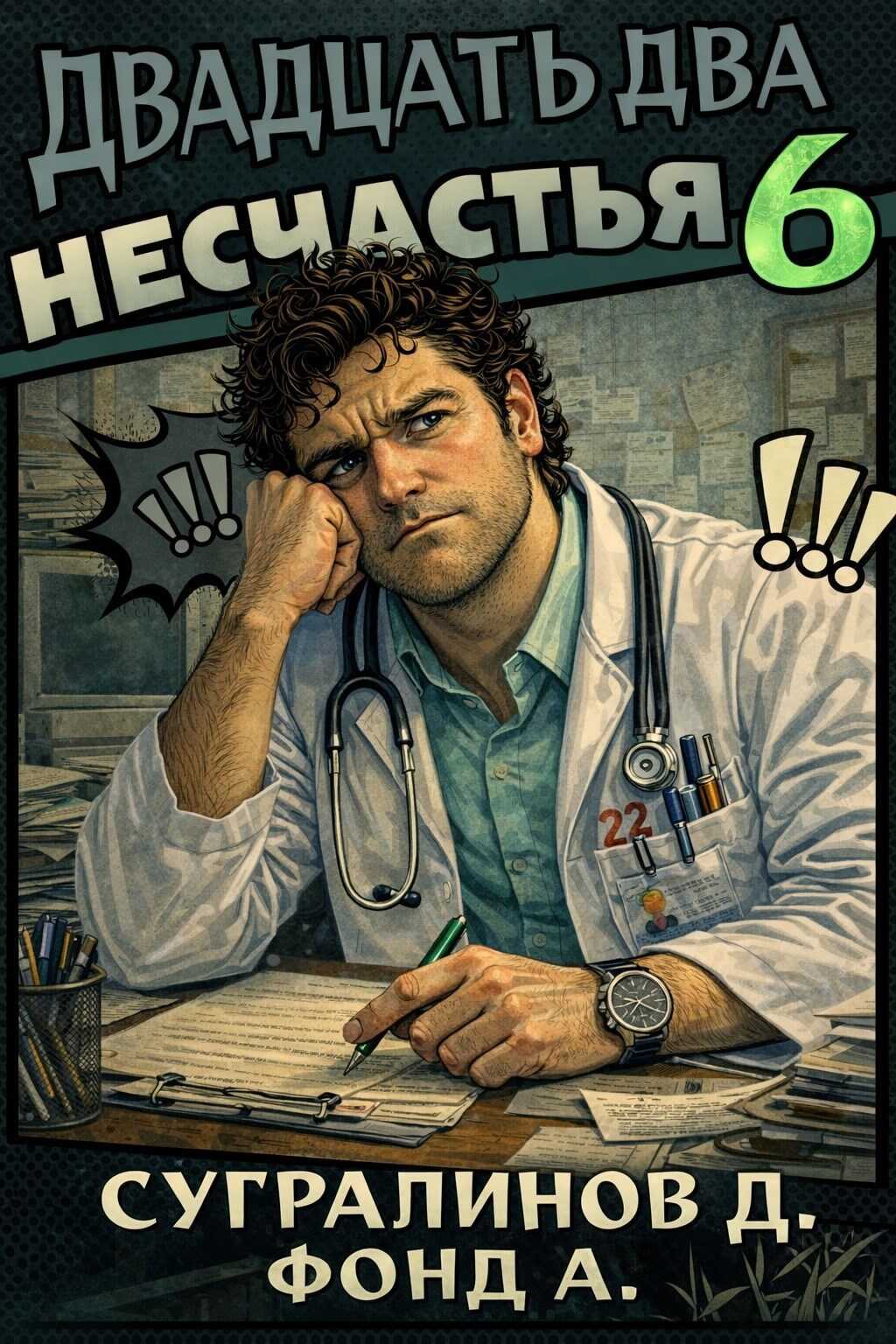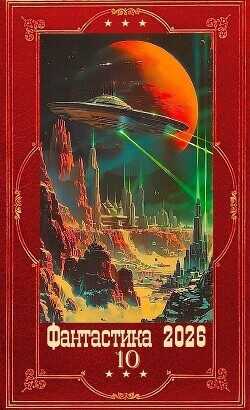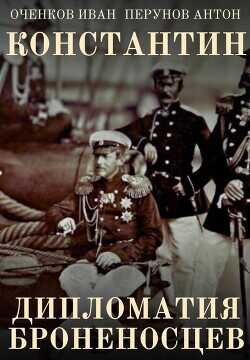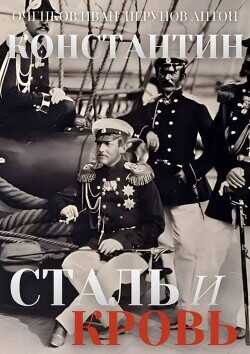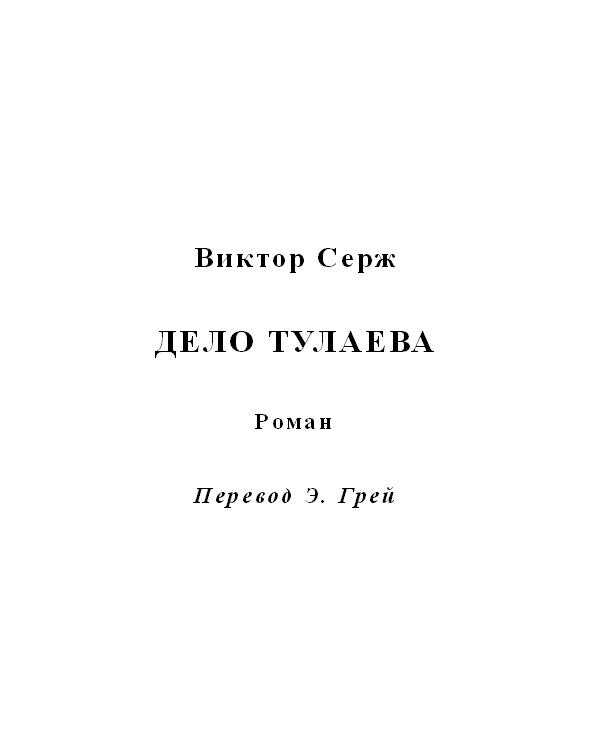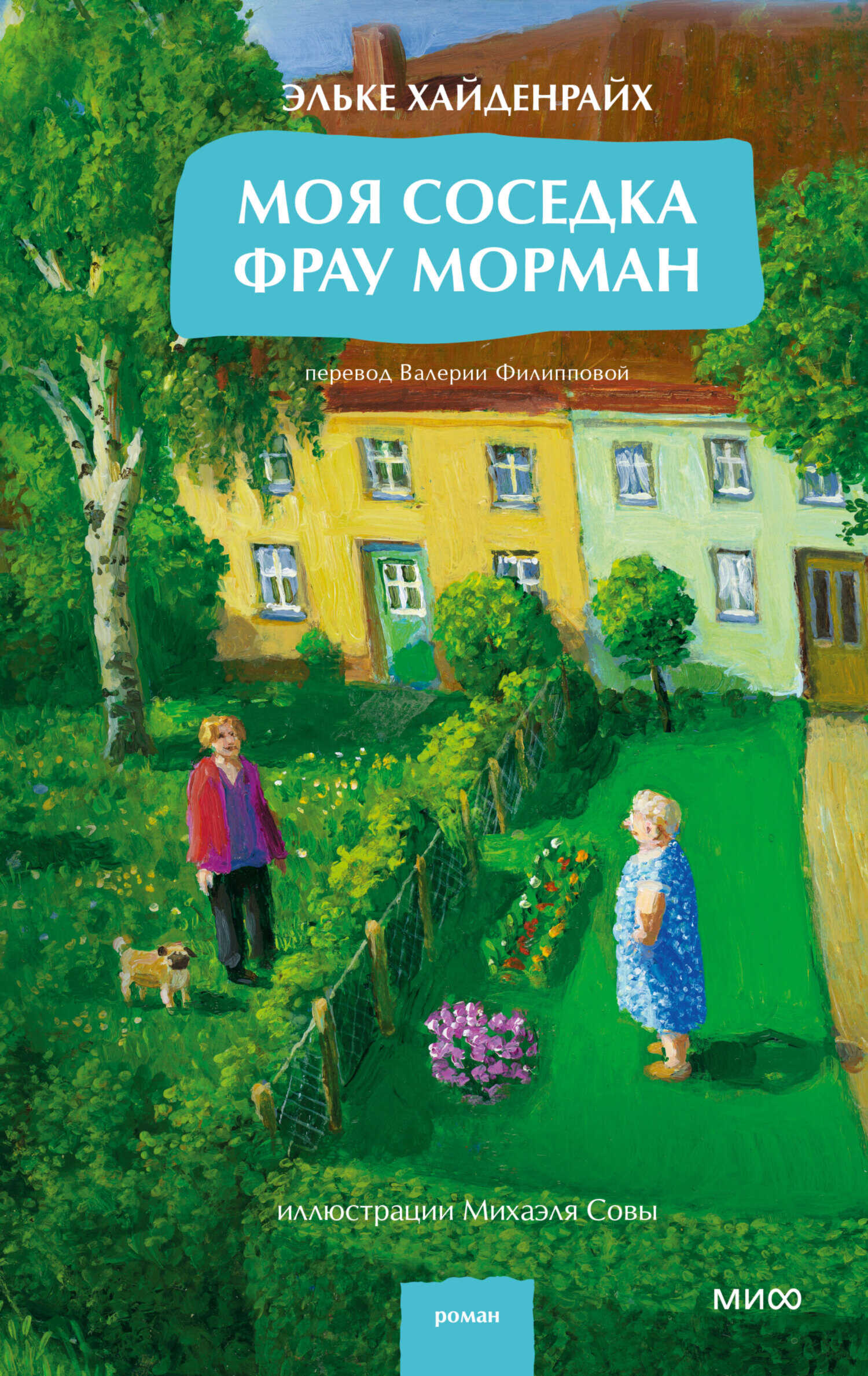Лидия Чарская
Полное собрание сочинений
Том двадцать третий
Для детей старшего возраста
С рисунками
Волнующе и остро, как запах экзотического цветка, уносятся под своды белого зала звуки танго.
Толя, в новом, с иголочки, военном кителе, узких рейтузах и высоких ботфортах, бережно держит в своих объятьях стройную Зину Ланскую и каждый раз, когда прелестная вдовушка наклоняется вместе с ним к блестящим квадратикам паркета, шепчет ей что-то.
А в большие старинные окна белого зала смотрит ясный июньский вечер. Брызжет уходящее солнце на оконные стекла, на китель Толи, на рыжие пушистые волосы Зины, кажущиеся сейчас огненными. Дразнящая мелодия танго, приобретая какую-то особенную выразительность под искусными пальцами корнета Луговского, извлекающего ее из чуть разбитых струн старинного рояля, и рыжие волосы Зины, пронизанные умирающими лучами солнца, и раздражающе красивые движения на диво подобранной красивой пары танцоров — все это создает впечатление чего-то старинного и утонченно-заманчивого.
Треть зала отгорожена высоким помостом сцены, устроенным для предстоящего любительского спектакля. Сейчас с высоты его Вера, Муся с Варей, корнет Луговской следят за каждым изломом своеобразно-чарующего танца, твердо обосновавшегося минувшей зимой во всех «укромных» уголках Петрограда.
Проносясь мимо сестер, Толя поворачивает голову в их сторону и кричит дурашливо: "Девочки, прячьтесь!.. Разве не видите? Это становится неприличным", — и, тотчас же ловким движением притянув свою даму, бросает ей на ушко:
— Я люблю вас, Зина, и так готов кружиться с вами всю жизнь.
Вдовушка смеется. Она всегда смеется в ответ на такие "эксцессы".
А потом она начинает возражать ему.
Какой вздор!.. Он любит, маленький Толя, которому она годится в прабабушки! Да и умеет ли он еще любить? Да, любить он умеет, но не ее, Зину, свою старую кузину (она умышленно подчеркивает «старую», прекрасно сознавая все обаяние своей двадцативосьмилетней красоты), а свой полк, товарищей, семью, сестер, «Аквариум», "Виллу Родэ", «Палас-театр» и некую крошку Жильберту, которая и научила его так бесподобно танцевать танго.
И Зина опять смеется так, как могут смеяться только русалки на озере в воздушную лунную ночь.
Ее кавалер закипает негодованием. Он говорит взволнованно и тихо, так тихо, что Зина одна только может услышать его:
— Зина!.. Злая, жестокая! И вам не стыдно? Мало того, что измучила, еще дразнит.
— Довольно!., довольно! Я — не любительница сильных ощущений и боюсь пробуждения ревности больше всего! — притворно-испуганно восклицает она.
И опять пьянящий смех русалки.
На красивом лице Анатолия появляется злое выражение.
"Подожди! Посмеешься ты у меня когда-нибудь!" — проносится жестокая мысль в его мозгу, и он до боли сильно сжимает тонкую кисть Ланской.
— Ай! — вскрикивает Зина. — Вы с ума сошли, маленький Толя! Я — не поклонница подчинения грубой силе. Пожалуйста, запомните это раз и навсегда.
Она говорит это и в то же время вся отдается ритму танца, увлекая за собой и кавалера.
Корнет Луговской не в силах сдержать свой восторг. Он обрывает танго на полуфразе, выскакивает из-за рояля и кричит, бешено аплодируя:
— Браво! Браво! То есть уди-ви-тельно как хорошо! Неподражаемо! Настоящие профессиональные танцоры! И знаменитая Жильберта в "Вилле Родэ"…
Тут блестящий лакированный сапог со шпорой незаметно наступает ему на ногу.
— Т-с-с-с! При сестрах-то! — шепчет Толя с растерянно-комическим лицом.
— Пожалуйста, не стесняйтесь! Мы — не дети и отлично понимаем, как вы проводите свободное время в столице. Не правда ли, Варюша? — звенит мелодичный голосок младшей из сестер Анатолия, его любимицы, шестнадцатилетней Муси.
Это удивительно миловидная девчурка, с такими же живыми, сверкающими задором и радостью жизни глазами, как и у брата.
Та, к кому она обращается, — бесцветная, тихая, застенчивая девушка, ее подруга по институту, — молча, с испуганным смущением глядит в ее карие, задорно поблескивающие глаза.
— Ха-ха-ха! Очаровательно, детка! Молодчинище! Вы прогрессируете, сударыня, — весело смеется Анатолий, хватая за руки младшую сестру и кружась с нею по сцене.
— Ну, да, конечно, молодец, если на то пошло, — продолжает Муся. — Ну, да, я говорю исключительно только правду и притворяться не желаю. Мы — не дети. И танго многие из нас в дортуаре по вечерам танцуют, и открытки с Жильбертой, популярнейшей его исполнительницей, не стыдятся иметь у себя. Ведь это — красота, а красота и мелкий стыд несовместимы.
— Браво! Дальше, детка, дальше!
— Муся! Муся! Перестань! Что ты? — с искренним ужасом говорит старшая сестра, Вера, от прямой, худощавой фигуры которой, от строгих черт и темных спокойных глаз веет чем-то суровым, как от древней византийского письма иконы.
— Полно, Верочка, ничего нет дурного в том, что я говорю — еще задорнее подхватывает Муся. — Не хочу притворяться наивной деточкой, не хочу лицемерить и ханжить, не замечать величия красоты там, где это не принято. И врать не хочу тоже. Ну, да, мне нравится танго — мотив его, нежащий и как будто убаюкивающе-усталый, и ритм его, и движения, как нравится всякое другое смелое начинание, как нравятся рыжие, обесцвеченные нашатырем и перекисью, волосы Зины и…
— Муся! Муся! — повторяет Вера.
— Оставь ее, кузиночка!.. Продолжай, Муська! Это прелесть что за девчонка, право! — не совсем искренне шумно восторгается вдовушка, у которой при упоминании о нашатыре и перекиси водорода горячий румянец выступает на слегка тронутом косметикой лице.
— Ах, нет, не буду говорить больше, не хочу! Пожалуй, с Верой удар еще сделается. Ведь все, что я говорю сейчас, не принято, неприлично в обществе, и за это маленьких детей секут розгами и ставят в угол! — и пухлые губы Муси надуваются, и все лицо становится капризным и совсем ребяческим в эту минуту.
"Любимец публики" признает этот момент очень удобным, чтобы подойти к ней.
— Вы прелестны, — говорит он неестественным тоном, наклоняясь к поэтично растрепанной темно-русой головке.
Его лицо, гладко выбритое, рыхлое лицо стареющего актера, с плотоядной улыбкой и выпуклыми глазами дышит на Мусю запахом дорогой сигары и цветочным одеколоном, которым он ежедневно обтирает себе щеки после бритья. Сладкий и пряный аромат каких-то дурманных и крепких духов исходит целой струей от его безупречно сшитого светлого костюма и ударяет в голову.
Муся чувствует инстинктивное отвращение к "любимцу публики" — или, вернее, к артисту частных петербургских театров, Думцеву-Сокольскому, привезенному братом Толей из столицы для постановки их любительского спектакля.
Виталий Петрович Думцев-Сокольский чувствует себя здесь, в этом чудесном уголке Западного края, в старинной усадьбе Бонч-Старнаковских, как в раю. Он воображает себя ценителем всего сильного, и не без основания прозван "любимцем публики" шалуньей Мусей за его полные самохвальства рассказы о бывалых и небывалых театральных успехах.
Нынче он, как и все находящиеся здесь в зале мужчины, по уши влюблен в очаровательную вдовушку, только что так умело продемонстрировавшую перед ними модное танго. Но за вдовушкой ухаживать опасно. Ее безумно и безнадежно любит молодой хозяин дома, товарищеским отношением с которым, хотя бы случайным, завязавшимся за бутылкой шампанского, он, Думцев-Сокольский, очень дорожит. Все-таки Анатолий Бонч-Старнаковский, продолжатель древнего аристократического, когда-то польского, теперь вполне обрусевшего, рода — богатый, блестящий офицер одного из лучших кавалерийских полков России, и выступать его конкурентом на поприще достижения благосклонности очаровательной Ланской и не умно, и опасно. Да и незачем это, когда под рукою находится такая прелесть, как Муся!
— Прелесть моя! Детка! — шепчет он.
Девочка поднимает на него карие искрящиеся глаза, и сейчас они мечут пламя.
— Во-первых, не смейте называть меня деткой! Вам уже сто раз говорилось это, — сердито роняет Муся. — А во-вторых, отодвиньтесь. Терпеть не могу, когда мне дышат в лицо табаком.
Она, демонстративно выскользнув из-под руки опешившего Сокольского, отбегает в дальний конец сцены, увлекая за собою и свою молчаливую подругу. Отсюда девушки соскакивают на пол и прячутся в глубокой нише окна, за шелковой занавеской. Оно раскрыто настежь, и ветерок слабо колышет занавеску. Невидимые никому из присутствующих в зале подруги могут здесь перемолвиться словом.
— Терпеть его не могу. Противно мне его ухаживание, — все еще сердито говорит Муся. — Когда он целует руку, чувствуешь, точно жаба тебя коснулась, а вот когда Луговской — ничего, ни чуточки не гадко. А ведь он и некрасивый, и неинтересный, только что играет на рояле хорошо. Вот поди ж ты! Почему это, Варюша?