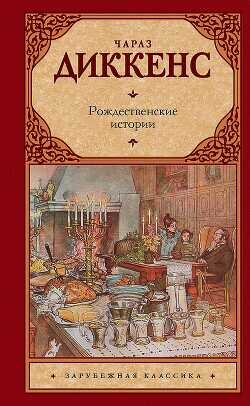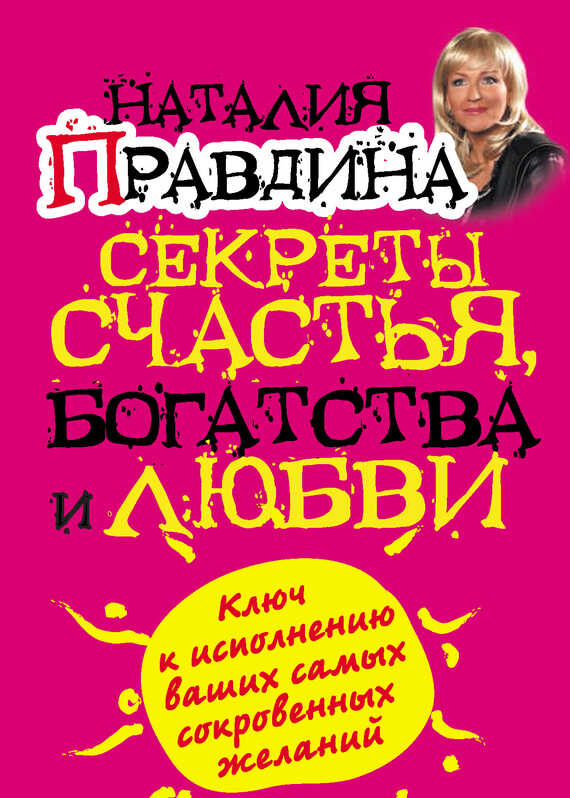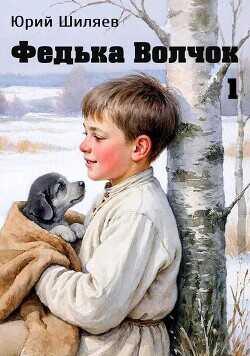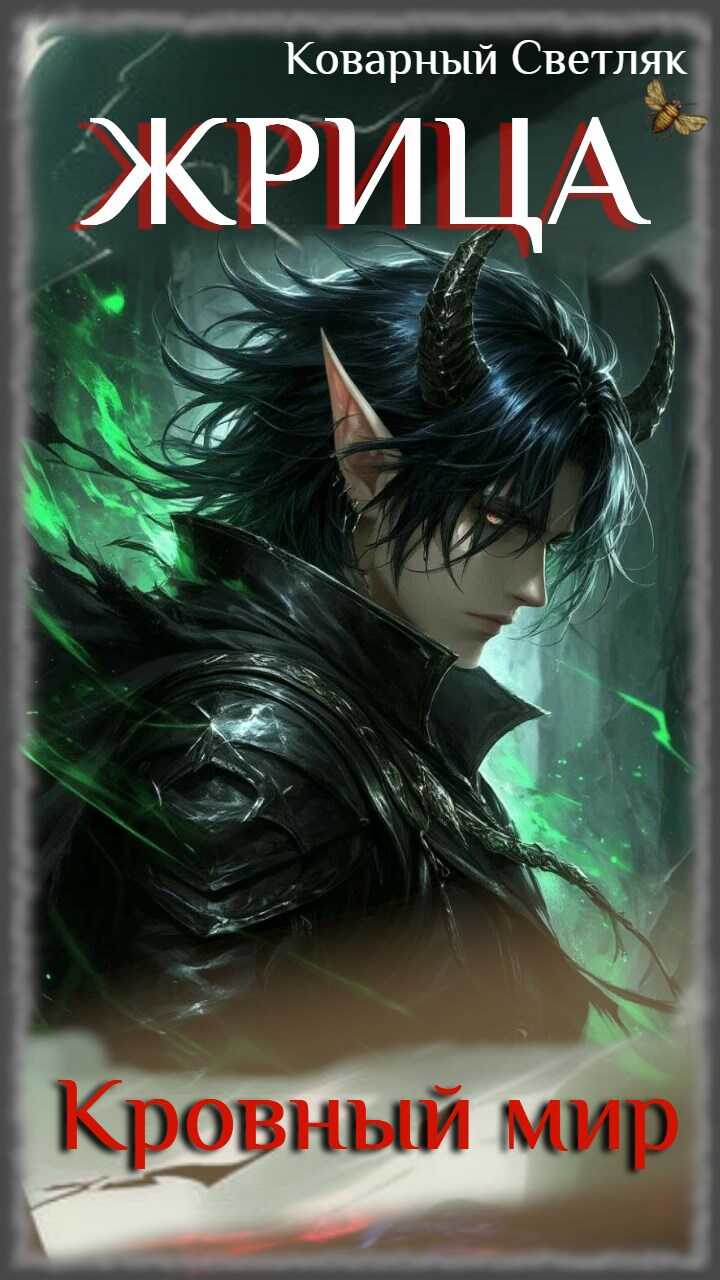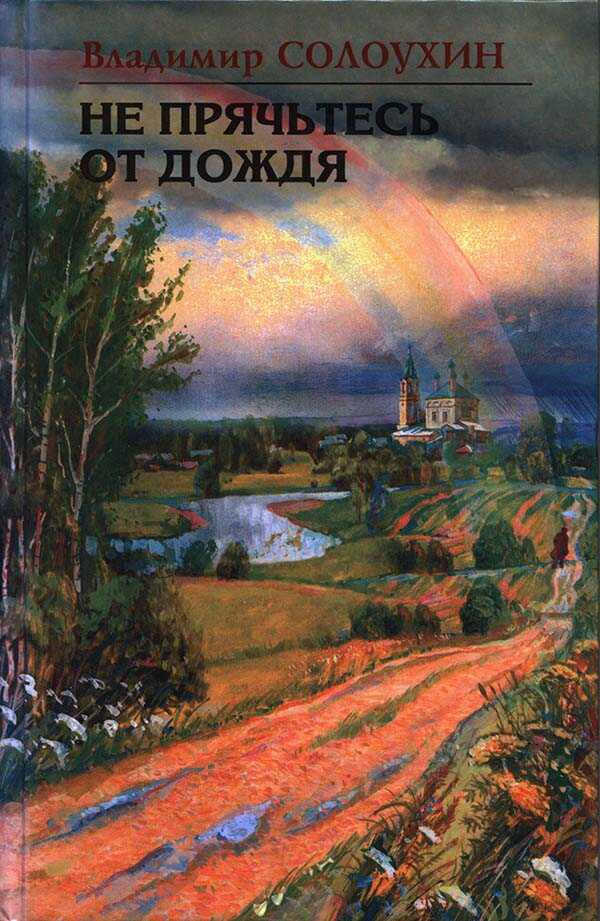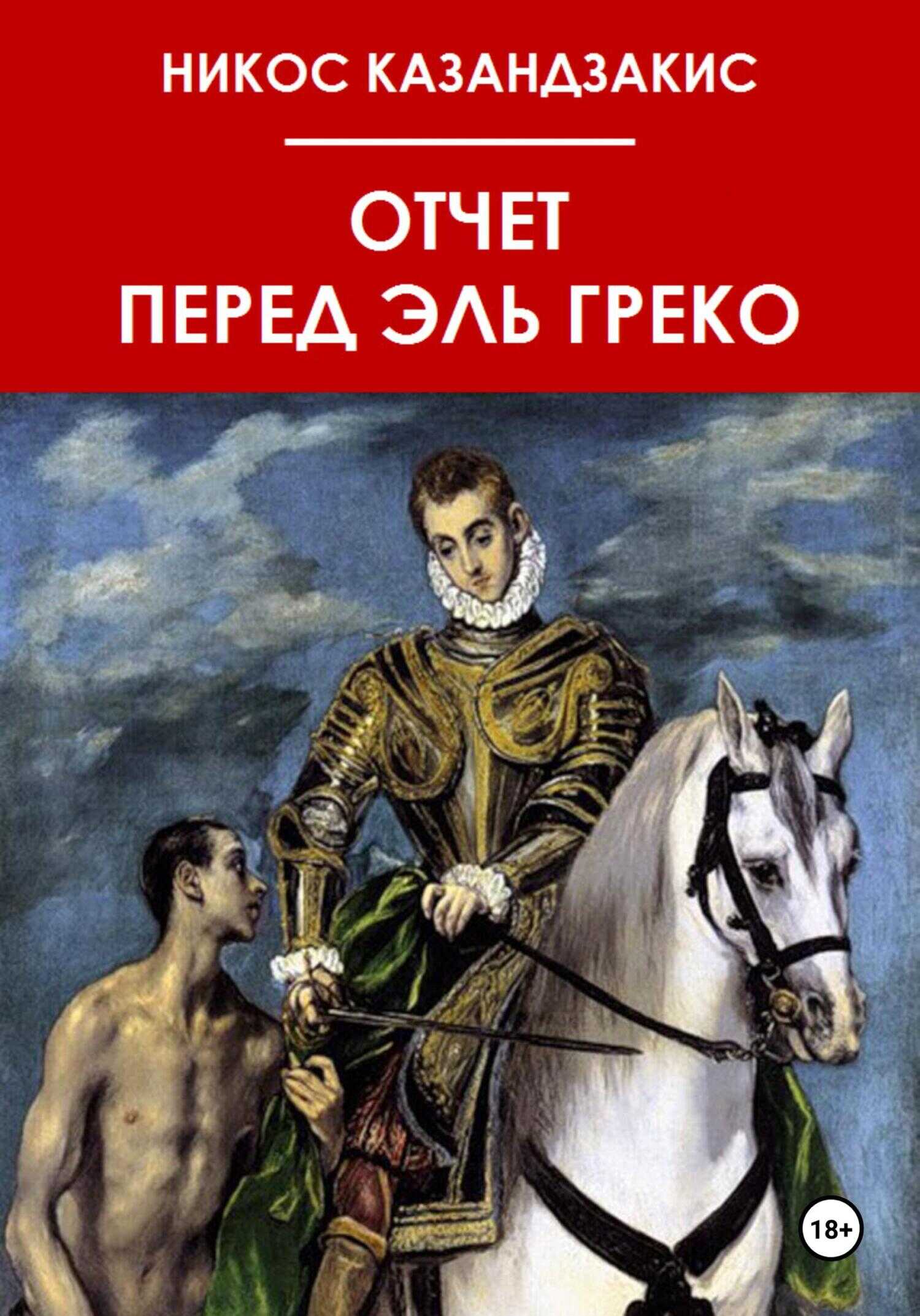Поднимая босыми, отчаянно загорелыми и основательно грязными ногами клубы пыли и покусывая крепкими зубами сорванную по дороге веточку, Петька медленно брел по залитой солнцем, вымершей деревенской улице.
На щеках сквозь загар проступали ярко-красные пятна, и таким же цветом пылали слегка оттопыренные уши.
Пыль, которую Петька „на зло врагам“ старался взбить как можно выше, садилась на длинные полосатые брюки, украшенные снизу бахромой, серым слоем покрывала лицо и забивалась в размокшие от жары волосы.
Петька с ожесточением топал ногами, яростно грыз зеленую веточку, а сердце его продолжало колотиться после только что перенесенной взбучки.
Правда, боль была не велика, но велика была обида, и эта обида занозой вошла в сердце.
Вылетев пулей из избы, он забыл шапку и теперь подставлял открытую голову палящим лучам солнца.
Веточка становилась все меньше и меньше, и наконец Петька со злостью рванул ее изо рта и кинул на землю.
Пройдя несколько шагов, он остановился перед невысоким плетнем, около которого стояла черная коза, старавшаяся, высоко задрав голову, урвать наименее высохшие прутья.
Петька толкнул калитку и только приготовился перешагнуть через свиную загородку, как из избы, стоявшей посередине двора, послышался пронзительный крик.
Петька, поднявший было вторую ногу, так и замер, болтая ею в воздухе.
За первым криком раздался второй, еще более пронзительный, и во двор вылетел мальчишка немногим меньше Петьки, но крепче его и шире в плечах.
Вслед за ним на пороге показалась женщина в подоткнутой юбке и сползающем с растрепанных волос платке. Одной рукой она размахивала каким-то красным платком, другая рука, вооруженная кочергой, грозила мальчику.
Петька, еще не совсем оправившийся от только что перенесенной взбучки, решил лучше не показываться сейчас на глаза Митькиной матери. Он спрятался за плетнем и, приладив глаз к одному из просветов между ветвями, стал наблюдать за быстро развертывающимся ходом военных действий.
Неприятель, вооруженный железным орудием, грозно наступал.
Митька не без храбрости кричал:
— Отдай! Слышь, мама, отдай!
Мать сделала шаг вперед. Кочерга грозно устремилась на Митьку.
— Не отдам, накажи меня бог!
Митька не сдавал позиции.
— Отдай!
Митькина мать сделала еще несколько шагов вперед, и сын, устрашенный подозрительной близостью кочерги, отступил к плетню.
Неприятель, очевидно, понявший тонкий план противника, направился к калитке.
— Погоди, дядька придет. Он тебе покажет. Он тебе пропишет.
Должно быть, дядина „прописка“ была куда страшнее материной кочерги, потому что Митька весь как-то съежился и стал подаваться к плетню.
— Куда? — грозно сказала мать. — Я тебе…
Но Митька, ни на минуту не терявший из виду позиции своего преследователя, схватился руками за колючую верхушку плетня и в один миг был на улице.
— Петька!
— Я.
— Рысью!
Две пары ног, не уступая в скорости доброй лошади, затопали по пыли. Сонные, разморенные жарой собаки лениво поднимали головы, и из их горла вырывался хриплый лай.
Какая-то женщина, переваливаясь, как утка, шла впереди, неся ведра, полные холодной колодезной воды. Услышав топот, она вздрогнула, и ведра заколыхались, расплескивая воду.
Вдогонку мальчикам понеслись ругательства.
Первым остановился Петька. Митька, пробежав еще несколько шагов, тоже остановился, увидев, что рядом никого нет. Он вернулся, и оба уселись на бревнах, запыхавшиеся и красные.
Рукавами рубашек они долго вытирали пот, все время проступавший на лице, и в результате их лица стали походить на куски полосатой материи. Пыль, смешиваясь с потом, не только не стиралась, но еще глубже въедалась в разгоряченную кожу.
Затем оба как-то разом глянули друг на друга.
Вначале заулыбались при виде узоров на лицах, но смех быстро угас.
— Э-э! — удивленно протянул Петька, уставившись на Митькину шею: — где твой?
— Сорвала. Мамка сорвала. Чуть с шеей не оторвала. А твой?
— И у меня не чище, — уныло сказал Петька. — Повесил я его на ночь на гвоздь.. Утром отец увидел, сорвал и… уж он хлестал, хлестал меня!
— Этим не больно.
— Не больно! Отца знаешь? У него в руке и соломинка дубиной станет. Силища!
— Э-эх! — вздохнул Митька.
— Ф-фу! — отозвался Петька, снова принимаясь вытирать пот.
— Как же теперь нам быть-то?
— Беда!
— Пускать не станут.
— Куда там! Теперь только по ночам убежишь. Да еще когда как.
— Дрянь дело.
— Гайка.
Митька старательно посыпал ногу пылью, стараясь зарыть ее до щиколотки.
— А с чего у тебя дело вышло?
— Да ни с чего особенного. Пришел отец вчера выпивши, сегодня голова трещит; опохмеляться надо, а нету. Встал собака собакой, ну и на меня…
— И у меня ни с чего. Сказал я мамке, что штаны надо покороче сделать, как у тех, ну, она и задала мне перцу. Сказала, что тряпку мою в печке сожгет, и чтоб не смел доставать другую.
— Увидит…
— Забьет, коли увидит. Я уж не знаю…
— А меня так и подавно прикончит, батька-то мой. Рука у него тяжелая, у-ух! — и Петька передернул плечами.
— А тут еще дядьку нелегкая принесла. Мамка-то ничего, а дядька…
— Дядька это действительно… это крепче.
— То-то, что крепче. Сегодня домой только к ночи приду. Авось его чертяка унесет.
Петька поднял опущенную голову и стал разглядывать узоры на Митькином лице.
— Эк тебя, разукрасило! Чисто ситец, что в кооперативе висит.
— А ты, думаешь, красивей?
Оба рассмеялись, и Митька лег на бревно животом вниз, но скоро вскочил.
— А все ж, — весело сказал он, — сказали нам, чтоб носов не вешать, ежели что. Значит и не надо вешать.
— Когда они уходят?
— Говорили, не то завтра, не то еще два дня простоят.
— Сходим к ним, а?
— Попробуй теперь, сходи.
— А ночью?
— Разве что ночью. Только они спят. Будить их, что ли?
— Ничего.. Ребята свойские. Сходим?
— Ну, что ж.
— Как все спать полягут, приходи к околице.
— К дубу, что ли?
— Ага!
— Надо, чтоб к утру поспеть.
— Поспеем. Чего там. Ночью по холодку живо допрыгаем.
*
Ночь. На темносинем, почти черном небе блестели крупные звезды. Легкий ветерок шелестит верхушками деревьев. Глухо перекликаются собаки. Изредка крикнет во сне петух. Деревня спит крепким сном усталого от дневной работы человека.
Во двор, освещенный луной, вслед за скрипом двери проскальзывает маленькая фигурка. Белая рубашка ярким пятном выделяется на темном фоне крыльца и пропадает в длинных тенях, отбрасываемых деревьями. Маленькая фигурка осторожно открывает калитку и, озираясь, так же осторожно прикрывает ее.
Окна изб, освещенные луной, как будто глядят на улицу. Темные, не освещенные — притаились и ждут.
Вот и околица. От нее надо подняться на горку, перейти по выгнутому шаткому мостику небольшую, высохшую от жары речушку. Два дуба, стоящие по обеим сторонам моста, начинают собой цепь таких же дубов, тянущуюся около версты.
От дуба отделяется другая маленькая фигурка, прислушивается и, заложив два пальца в рот, свистит.
Такой же свист несется со стороны моста, и Петька подбегает к другу.
Пошли по узенькой дорожке между крупными, выпирающими из земли корнями деревьев.
— Смотри ты, никак что-то бежит, белое какое… — И Петька, остановившись, стал вглядываться в просвет между дубами.
— Душа человечья, — дрогнувшим голосом сказал Митька.
Петька, ничего не ответив, продолжал вглядываться.
— Эх! — досадливо сказал он через несколько секунд: — дурачье-старье болтает, а ты уши развешиваешь.
— А что ж оно было?
— Оно, оно! Мироновская сука, вот тебе и оно! Она белая да большая, а тут лунища засвечивает, вот и показалось. Чепуха это.
— Да, а что я от деда слыхал, когда еще маленьким был. Хочешь послушать?
— Говори, — милостиво согласился Петька: — только много не бреши, а то я брехни не люблю.
— Рассказывал дед, что, когда был он молодым парнем, привиделась ему русалка.
— Врет.
— А ты погоди, дай досказать. Пошел он рыбу ловить на прудок-то, знаешь, где теперь чистое место. А тогда прудок был что надо. И рыбы гибель. Ну, вот, сидел он, сидел, ловится хорошо, и засиделся до-темна. Только собрался домой, слышит — застонало где-то. Жа-алобно так. Потом еще. Потом ближе. Потом вода зашевелилась. Глядит, — сердце в нем захолонуло, — из воды лицо лезет. Белое, белое. И с глазами. И все — как у человека. Испугался дед, глаза на лоб полезли, а тут будто что-то в спину — толк, и дед кубарем да в пруд. Катится с пригорка, а сам думает: конец мне, конец!