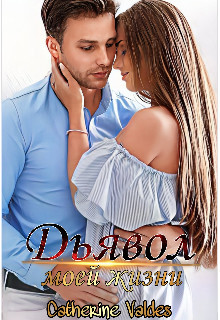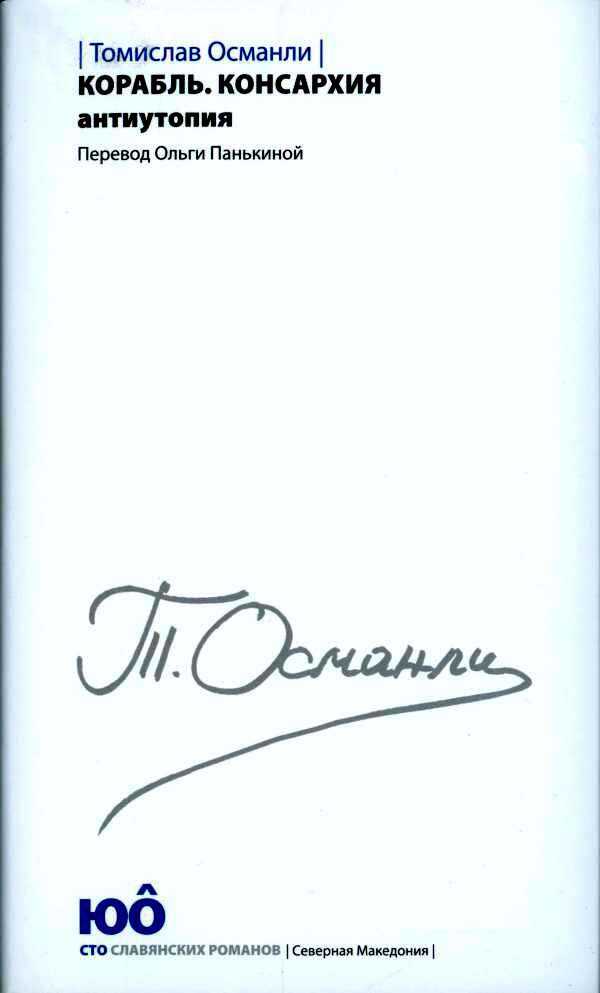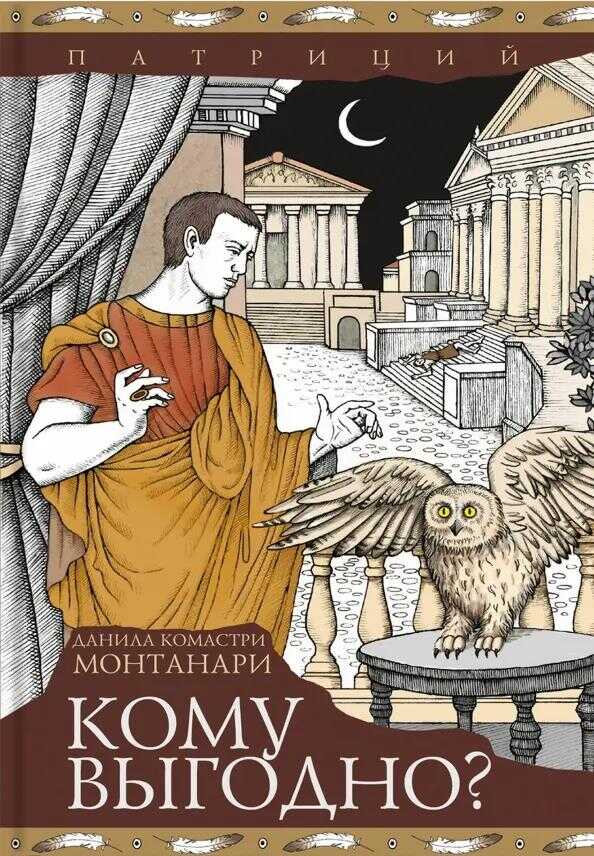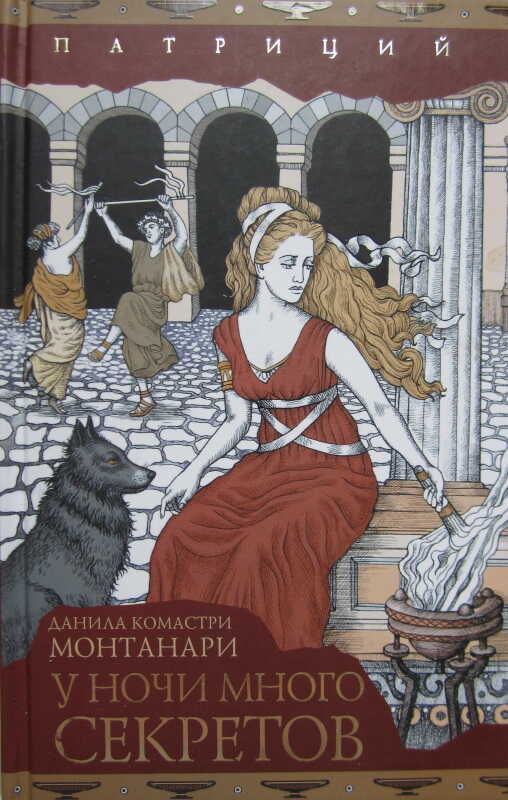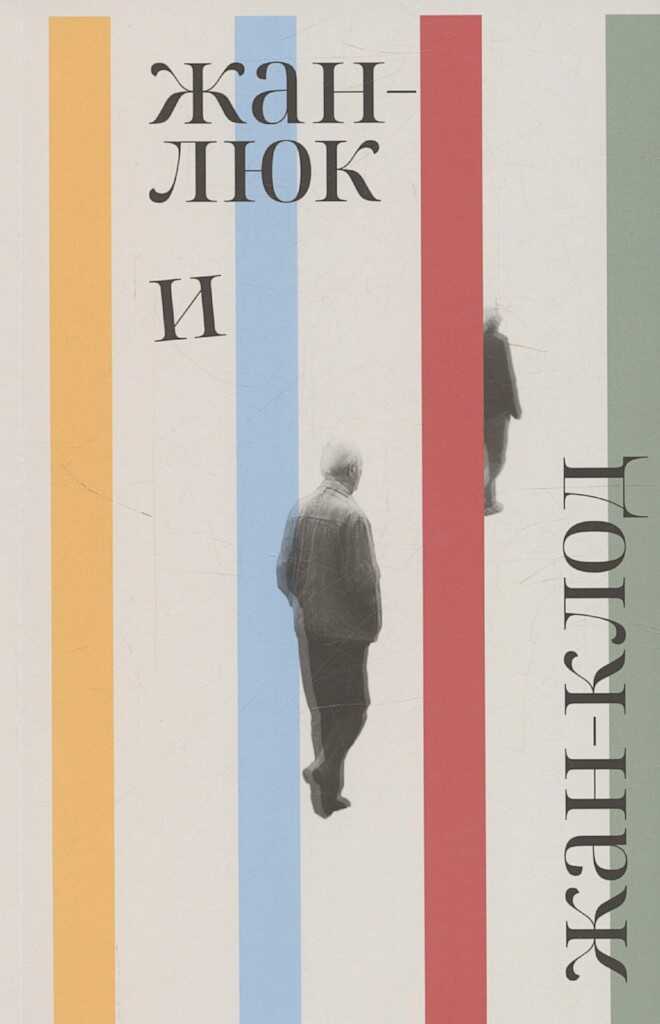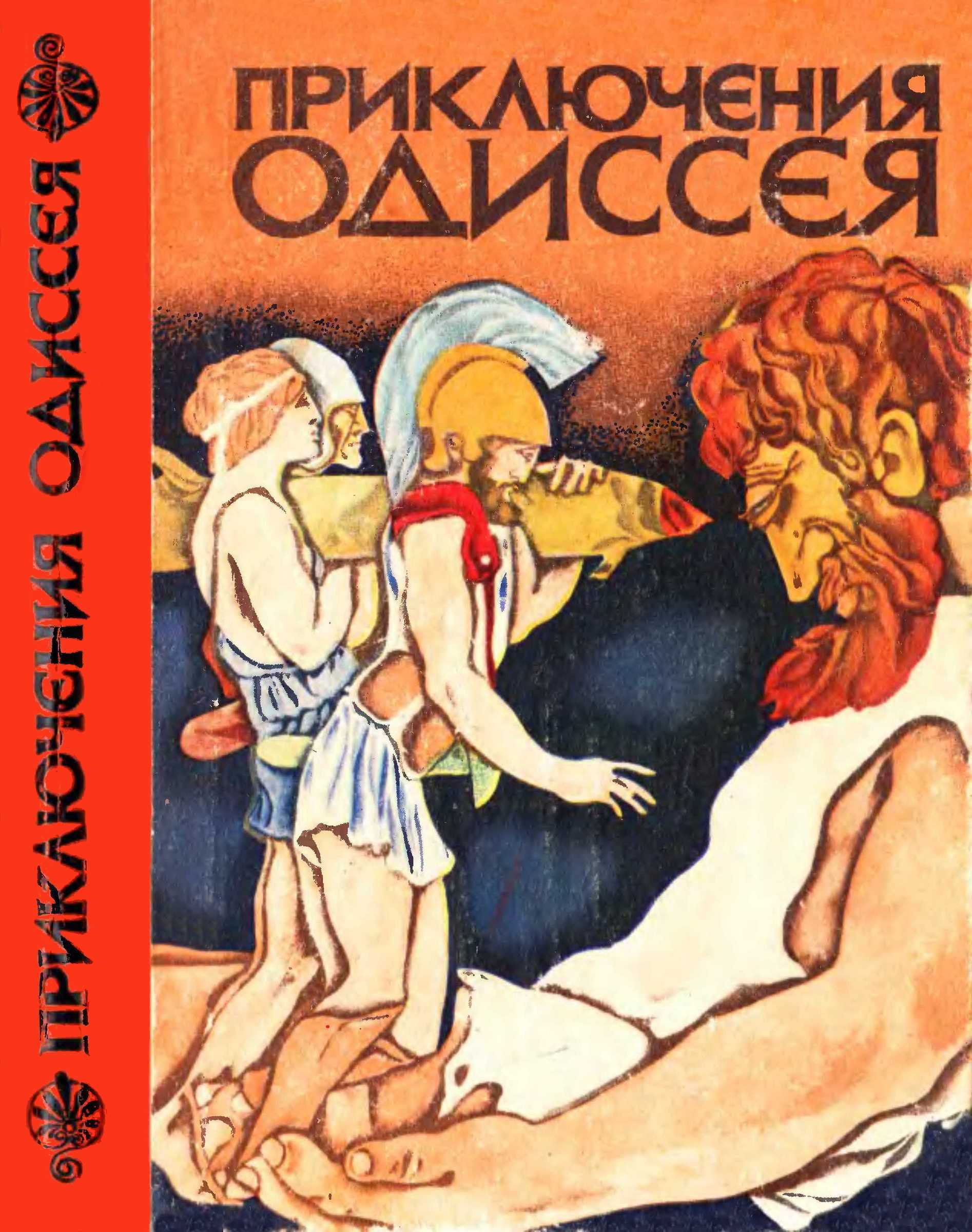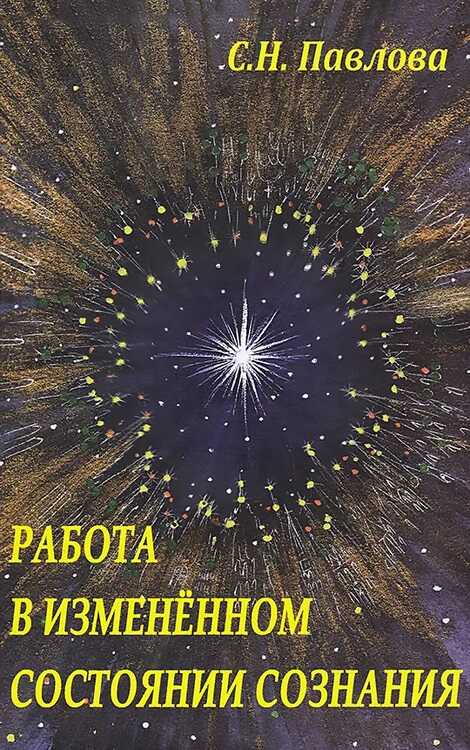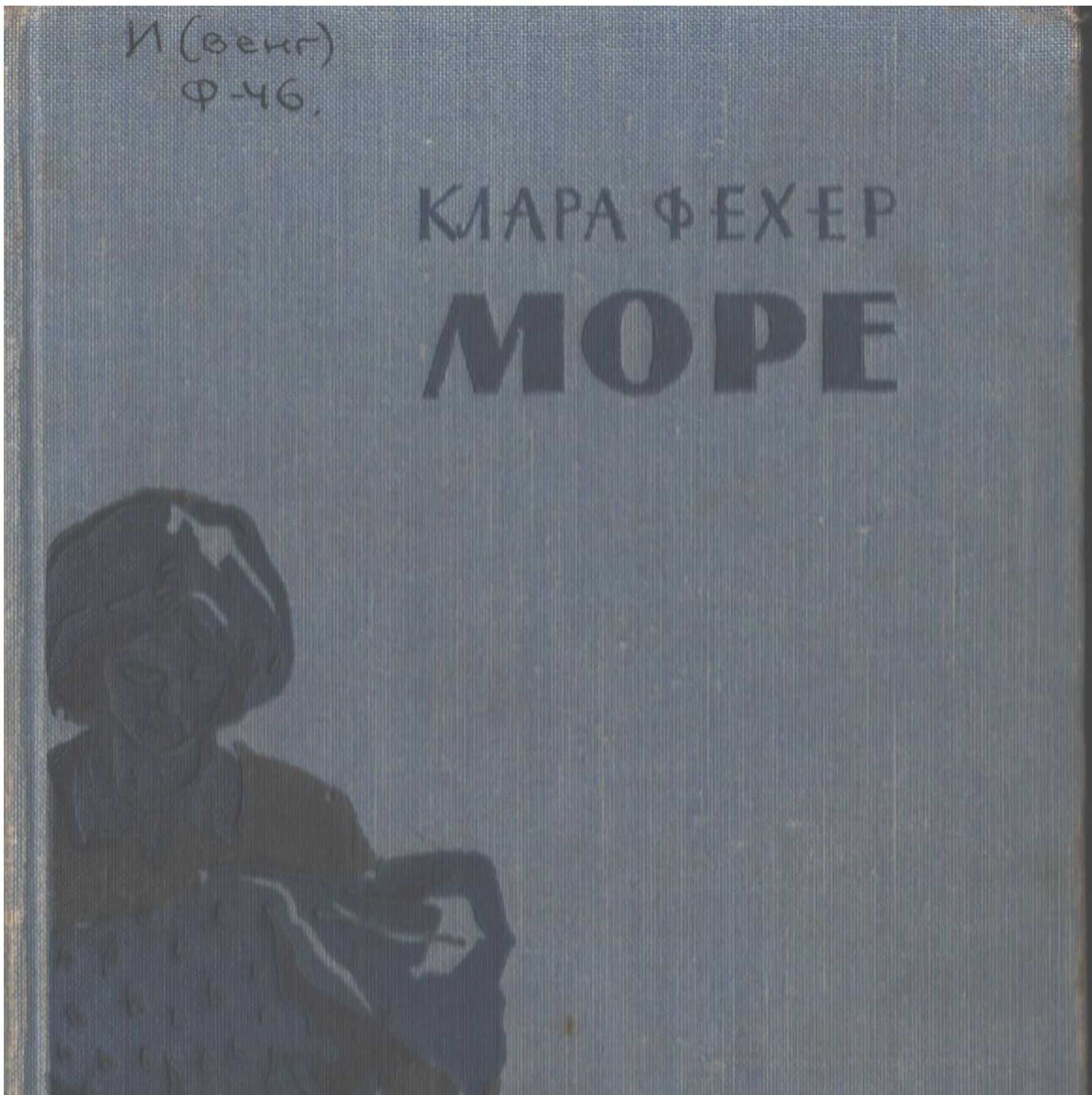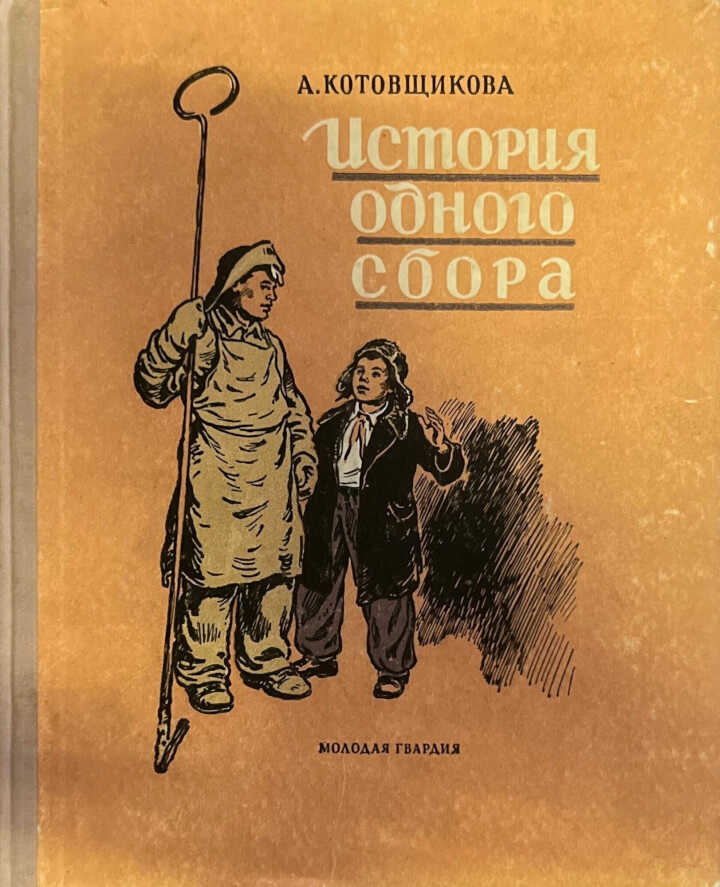действительно слушать не стану. Сделаю всё наоборот.
Может быть — зря.
* * *
К вечеру от смутного чувства раскаяния и следа не осталось.
Для начала, во всём посёлке отрубили электричество. Затем в баллоне закончился газ. Галчонок Второй орал, не переставая, вот уже часа два — кажется, это были не зубки, а колики. Галка с совершенно безумными глазами металась по кухне, укачивая одной рукой захлебывающегося плачем ребёнка, второй пыталась заправить керосиновую горелку. Бормотала о семенах укропа, кипячении бутылок, и что же придумать с ужином? Ну а старшего своего отпрыска, повесила, конечно, на меня.
Галчонок Первый, акселерат и вундеркинд, справивший недавно второй день рождения, уже освоил такие ценные навыки, как лазание, бег, преодоление препятствий — а также швыряние, ломание и погрызение того, что попадётся в загребущие ручки. В ручки попадалось всё, что лежит на уровне его роста — а к тем чу́дным сокровищам, которые по вселенской несправедливости положили слишком высоко, он пытался залезть, выказывая при этом ловкость потомственного альпиниста. Папа очень гордился.
И вот пусть бы гордый папа сам стаскивал своего потомка с неустойчиво накренившейся поленницы!
— А-ааа! — заорал скалолаз, которого лишили удовольствия грохнуться с расползающейся под ним горы дров и сломать себе что-нибудь важное. — Дай! Дай! Пути!
— Вот откуда в тебе столько энергии? — задыхаясь, спросила я и сделала вид, что кусаю оголившееся пузо. — Вот дать бы тебе розетку от кипятильника, а другой конец сунуть в воду — вскипятим целую ванну, и без всякого электричества!
— Ай! Неть. Не нада!
— Нада! Ещё как нада!
— Эй, городская. Олька! О-оля-я-я!
Обернулась. Вообще-то, по-настоящему меня зовут Ольхой, но это большой секрет. В свидетельстве о рождении и прочих важных бумажках записано официальное имя: Белова Ольга Борисовна. Ну и на Олю, Оленьку, Ольку и Оленёнка я тоже откликаюсь.
Над кривым забором висели две вихрастые головы: деревенские ребята, с которыми мы вместе носились по лесу и играли на озере.
— Айда с нами, через костры прыгать!
— Через костры? — я сомнением нахмурилась, позволяя Галчонку сползти на землю. — А не рано?
До Ивана Купала оставалось вроде бы ещё две недели, не меньше.
— Почему рано? — ухмыльнулась веснушчатая собеседница. — Прохладно, конечно, но если тепла ждать, то и лето закончится. Пошли давай! Искупаемся. Потанцуем. Картошечки напечем!
Я очень ярко представила себе всё это — костёр, картошка, из луков ещё наверняка будут стрелять, кто-нибудь из старших гитару притащит. Даже дёрнулась, было. Но тут же опомнилась. Оглянулась на дом, где сражалась с отсыревшими спичками мачеха. Сжала зубы.
— Не могу, — сказала, тихо. — Наказана.
— Ну и ладно, — пожали плечами в ответ. — Бывай тогда.
И убежали. А мне отчаянно захотелось плакать. И без того на душе было душно, словно перед грозой, а теперь и вовсе навалилось, не вздохнуть, не выдохнуть, будто камень на шею повесили. Как же оно всё!..
Из пучины жалости к себе меня вырвал подозрительный шорох. Да ёлки же палки! Петька-то где?
Я оглянулась. Разумеется, Первый Галчонок, пользуясь случаем, полез к клятой поленнице. И сейчас, вот прямо сейчас, обрушит её на себя! Я и сама не поняла, когда очутилась рядом, как успела выхватить мелкого поганца из-под падающей на него горы чурбаков. Отскочила прочь, стараясь не попасть под сыплющийся с грохотом прямо на голову стратегический запас топлива.
— Ну что, доволен? Доволен теперь? Мёдом тебе там было намазано, да? Посмотри, что наделал! — я в сердцах пнула подвернувшееся под ногу полено и, конечно, ушибла палец. — А собирать кому? Кому, я спрашиваю?
Впрочем, понятно было, кому. Не великому же скалолазу. И не его недотёпистой матушке, у которой всё тухла и тухла горелка и, похоже, закончились спички.
Первый Галчонок сунулся было к пока ещё не разворошённой горе хвороста, получил по попе, захныкал. Я же почувствовала неодолимое желание заплакать само́й.
— Да чтоб ты провалился, гадёныш! — прорыдала срывающимся голосом. — Пусть кому надо, тот тебя и воспитывает! А я больше не могу. Не могу! Больше!
И в это мгновение вдруг стало оглушительно тихо. И зябко. Я высморкалась, отбросила с лица волосы и успокоилась как-то резко, сразу. Нагнулась, подбирая отлетевшие в сторону дрова.
Насторожил меня даже не шорох, а запах. Озёрный такой, не затхлый, не тинный, а как от чистой воды. Холодный. Глубинный.
Я медленно, будто сомневаясь в себе, обернулась.
Июньские ночи светлы, а сейчас было не так уж и поздно. В воздухе вместо сумерек растеклось особое, будто подёрнутое дымкой сияние. В сгустившемся свете не существовало теней, и в то же время всё круго́м было — немножечко тень. В этой зыбкой хмари стоявшая напротив девочка показалась единственным, что осталось в мире реального и настоящего. И прекрасного. Столь прекрасного, что от красоты этой невозможно было дышать.
На вид незнакомка казалась на пару лет старше меня само́й. Худая, высокая, белокожая. Видимо, шла с ночного купания — влажные волосы, мокрое платье с измазанным глиной подолом. И ещё от неё исходило ощущение какой-то царственной самоуверенности. Надменный взгляд, изгиб бледных губ, что-то неуловимо властное в развороте плеч. Девчонка будто несла на спине всю тяжесть белого неба — и вес этот ей нисколечко не мешал.
… а ещё было что-то очень неспокойное, хищное в наклоне головы, в линии тонких рук. Тех самых рук, которыми она держала, прижав к груди, Первого Галчонка. Белова Петра Борисовича.
Первуна.
Моего младшего брата.
Время вокруг застыло молочно-белой смолой.
— Ты кто? — мой голос звучал хрипло, не слушался. — Что здесь делаешь?
И, уже громче, хлёстко:
— Отпусти его!
Губы чужачки дрогнули в совсем уж откровенной насмешке:
— А ты забери!
Мокрая дрянь вроде бы только начала шаг — а уже оказалась рядом с колодцем. Мелькнуло в сумраке белое платье, оттолкнулась от сруба босая ступня. Тварь прыгнула — и исчезла. Рухнула вниз, в никуда, в чёрную пропасть.
Унеся с собой Петьку.
Время вновь понеслось вскачь. Я даже закричать не сумела. Потом, пытаясь собрать по кускам мозаику беспомощных воспоминаний, я раз за разом возвращалась к мысли, что даже закричать не смогла.
Бросилась вперёд, к колодцу. Больно ударилась грудью о мощные, чёрные от времени брёвна оголовка. Заскребла ногтями по срубу, зовя брата, вглядываясь в бездонную темноту шахты.
Ни всплеска, ни блика, ни плача. Тишина, и счёт идёт на секунды.
Кто? Почему? Что