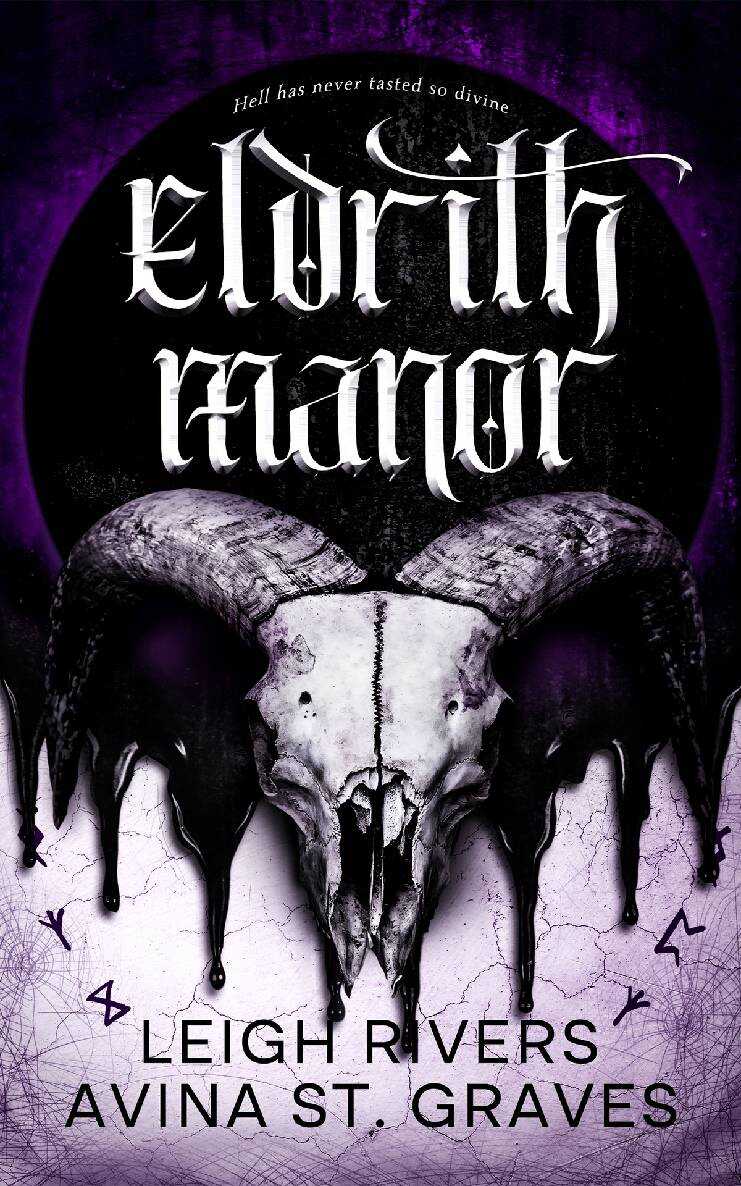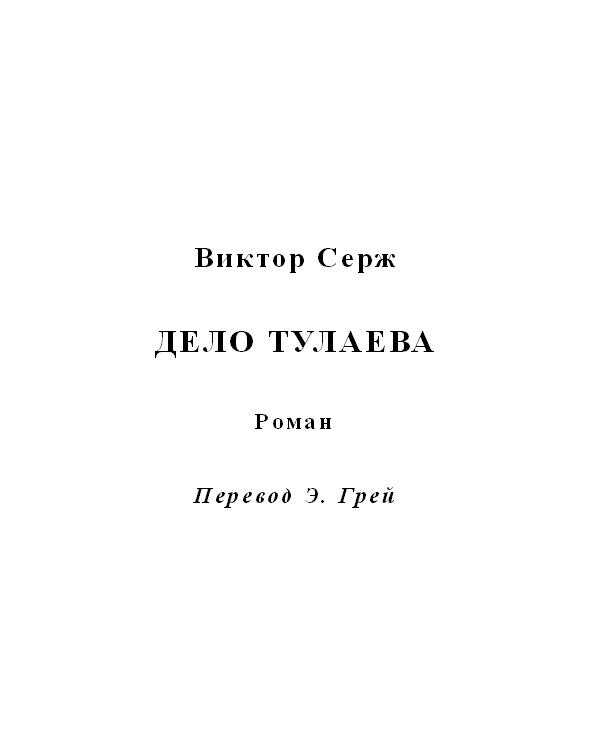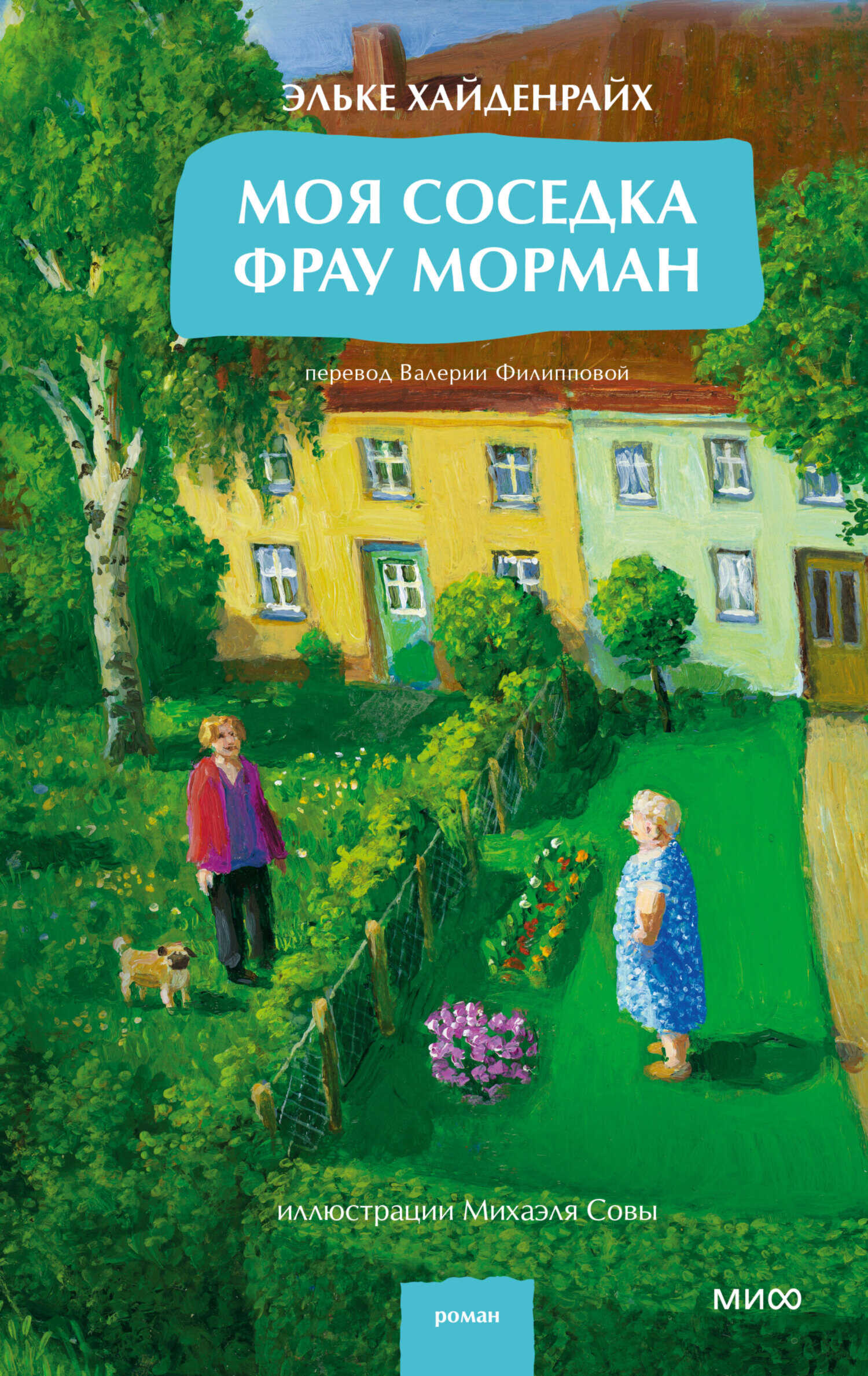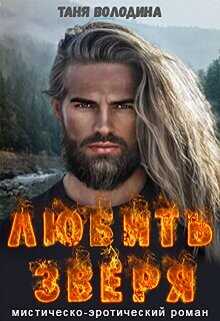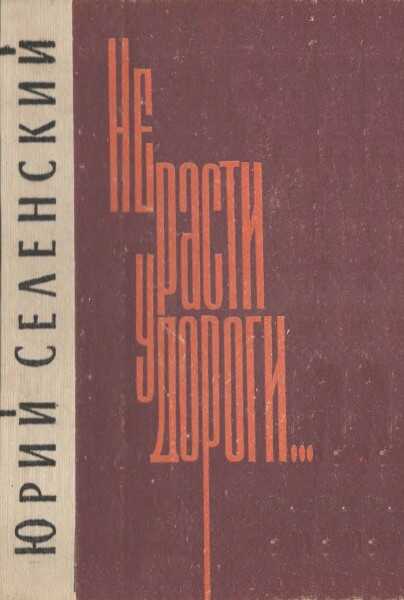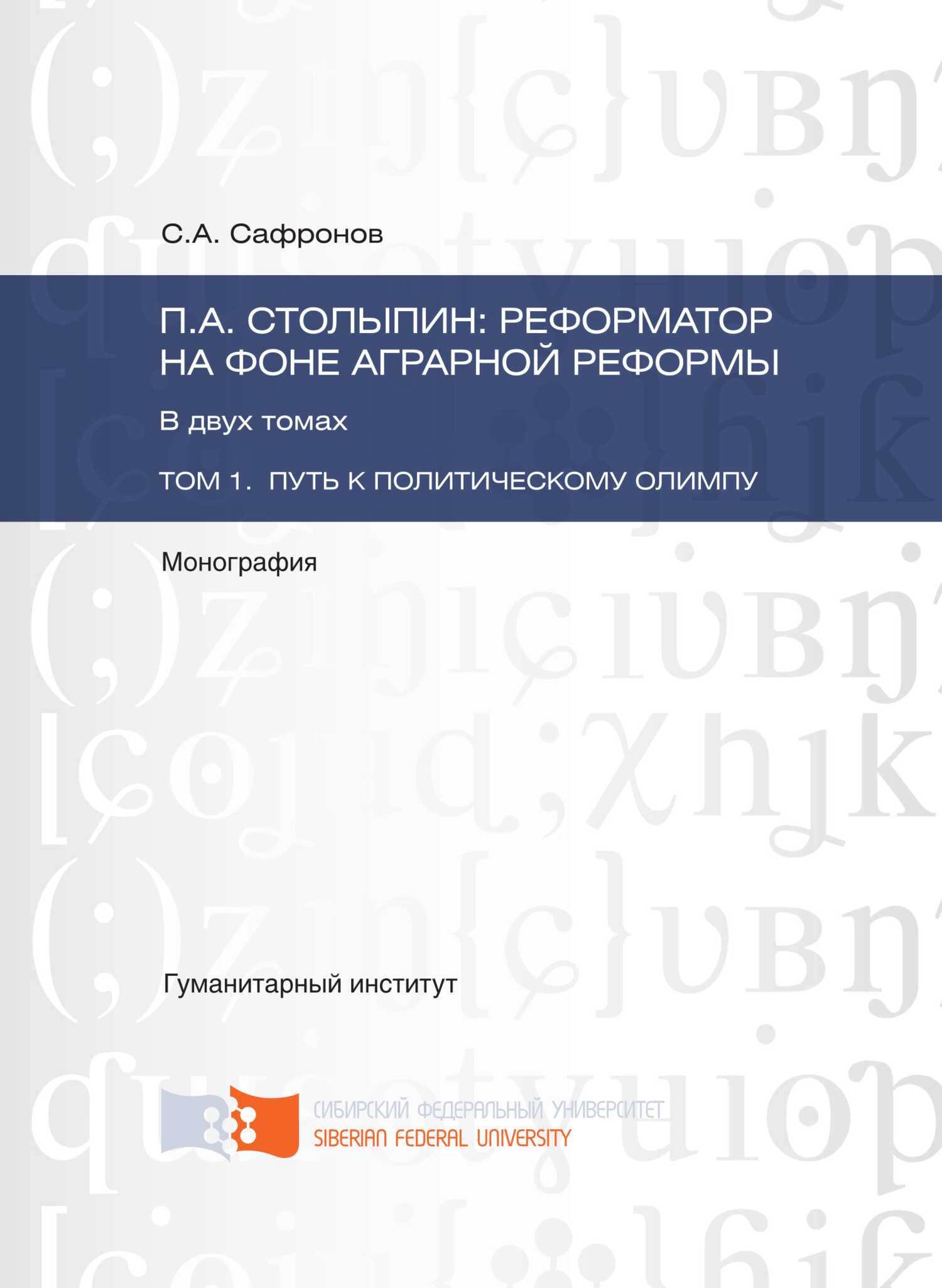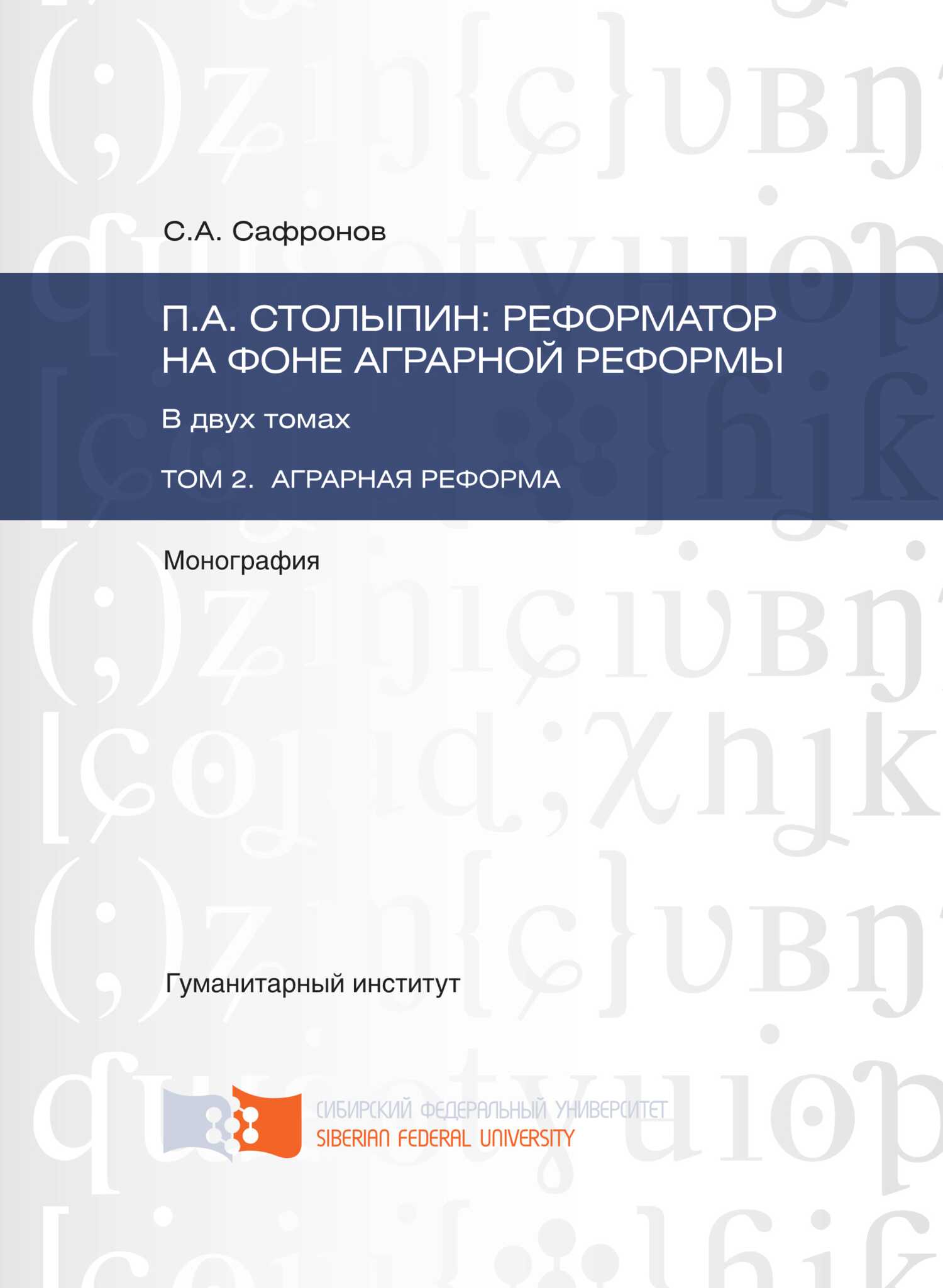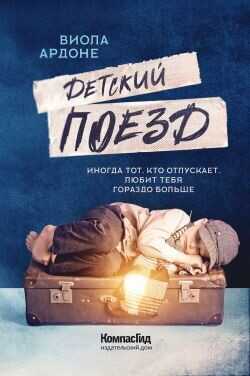долго молчит. — У меня была кожная реакция всякий раз, когда я ел хлеб. Я работал на железной дороге. — Линкс замолкает, словно перебирает в памяти все воспоминания, чтобы выбрать одно идеальное. — Однажды я насыпал Тони в рот песок, потому что он слишком громко храпел.
Железные дороги? Неужели он…? Нет, мир не настолько мал.
Все эти истории до странности конкретны, но я не сомневаюсь, что последняя из них правдива. — У тебя никогда не было кожной реакции, — догадываюсь я, чувствуя, как медленно расслабляюсь в его объятиях. Как будто мы уже сотню раз сидели вот так, и это так же естественно, как дышать.
Он кивает. — Мою мать тошнило всякий раз, когда она ела то, что нам давал пекарь. Она всё равно это ела, потому что часто это было нашим единственным вариантом, а мы не могли позволить себе лекарства. Альтернативой был голод.
Я и не подозревала, насколько тяжёлой была жизнь Линкса до того, как он стал демоном, но теперь понятно, почему он ненавидел мою семью только за то, что у них были деньги.
— Наши учёные называют это целиакией. Это когда ты не можешь есть глютен — вещество, содержащееся в хлебе, из-за которого твоя мать заболевала. У моей сестры тоже он был.
— От этого есть лекарство?
Я качаю головой.
— Как ты думаешь, это могло её убить? — Он колеблется. — Она долго была нездорова, прежде чем я нашёл её мёртвой, когда вернулся домой с работы. — В его голосе слышится гнев.
Моё сердце сжимается от боли за него, и я слышу тиканье часов в нашей квартире; вижу, как бледна кожа Эллы. Я протягиваю руку, прежде чем успеваю передумать, и сжимаю его ладонь в молчаливом понимании.
— Это могло быть что угодно, — тихо говорю я, вспоминая, как часто я винила себя в смерти Эллы. Я изо всех сил старалась покрыть её медицинские расходы и всегда думала, что если бы я сделала что-то ещё, то её бы вылечили.
Но я ничего не могла поделать. Элла приняла решение, как и его мама.
«Это всё равно твоя вина», — шепчет голос в моей голове. Я сглатываю комок в горле. — Иногда мы принимаем беспомощность за вину. Это не твоя вина.
Он вздыхает и откидывает голову на стену. Мы оба больше ничего не говорим. Мы оба знаем, что такое утрата, и оба знаем, что значит не попрощаться.
Но если бы у меня была возможность исправить свои ошибки и сказать Элле всё, что я должна была сказать, я бы ею воспользовалась.
— Твоя очередь, — говорит Линкс, разряжая обстановку.
Я делаю глубокий вдох и обдумываю, чем бы я хотела поделиться, не раскрывая слишком много из своей истории.
— Раньше я хотела стать художницей только потому, что это была профессия, которая больше всего раздражала моих родителей, — начинаю я. — Летом, когда все спали, я забиралась на то дерево и спала там. — Я показываю в сторону леса.
Белка считала это дерево своим домом, и я была уверена, что она моя подруга, потому что я была Белоснежкой или кем-то в этом роде.
Я перестала забираться на дерево, когда упала с него и вывихнула плечо. Шестилетняя я была убита горем из-за того, что моя подружка-белка не спасла меня и не разбудила, прежде чем я упала. Думаю, этот факт расстраивал меня больше, чем бесконечные часы родительского гнева, которые мне приходилось терпеть, и дни, которые я проводила запертой в своей комнате, выходя только в школу или в туалет.
— Однажды в лагере я отстала от группы, потому что один из детей меня расстроил, и пропала примерно на два дня, — заканчиваю я.
Линкс обдумывает варианты, а затем смотрит на меня. — Не могу представить тебя художницей.
— Я тоже не могла, но всё равно хотела это сделать. — Я усмехаюсь. — Я никогда не пропадала. Однако был один парень, который меня разозлил, и я ударила его, из-за чего меня отправили домой на два дня раньше. В итоге я лишилась девственности с тем самым парнем под трибунами, а потом целовалась с его братом у него на глазах на выпускном, когда он сказал всем, что, по его мнению, моя сестра сексуальнее.
Его глаза темнеют, и он напрягается. Тени на его челюсти подрагивают при каждом движении коренных зубов. Но он ничего не добавляет.
В груди у меня разливается то же тревожное чувство, что и всегда, когда я в жизни говорю что-то не то. Это покалывание тревоги перед лицом последствий того, что я, сама того не осознавая, сделала плохо.
— Когда мне было восемь, я сломал большой палец, когда дрался с другим мальчиком, с которым мы жили в одном доме, — говорит он, меняя тему, как будто чувствует, о чём я думаю. — Рядом с богатой частью города был театр, у которого был плохо охраняемый чёрный ход. До того, как моя мать заболела, я пробирался внутрь и слушал представления из-под сцены. И я… — Долгая пауза заставляет меня выпрямиться и обратить на него всё своё внимание. — Я никогда никого не целовал.
Я смеюсь, но тут же морщусь и хватаюсь за живот. — Если уж и лгать, то хотя бы правдоподобно. — Я закатываю глаза и ухмыляюсь, а его взгляд становится убийственным. — Очевидно, что последнее — ложь. Ты бы не трахал людей так, как ты это делаешь, если бы хоть раз кого-то поцеловал.
Но он продолжает сверлить меня взглядом, и в лунном свете я вижу, как краснеют его щёки. Морщины на его лбу и злоба в глазах не похожи на то, как он злился на меня раньше.
Он кажется… смущённым.
Мой взгляд падает на его губы, и я ахаю. — Чёрт. Ты серьёзно? — Я недоверчиво моргаю. — Как?
— Эта игра была пустой тратой времени.
Я едва не падаю на землю от того, как быстро он отстраняется и направляется к французским окнам, даже не взглянув на меня.
— Подожди. Нет. Линкс. Остановись. — Я с трудом поднимаюсь на ноги, морщась от боли. — Правда или действие? — Мой голос срывается от боли и отчаяния. В любом случае, он останавливается, стоя ко мне спиной и наклонив голову в сторону.
— Я не буду играть в твои дурацкие игры, — выплёвывает он.
— Просто выбери, — настаиваю я. У меня дрожат руки. Я не знаю, что делаю и что собираюсь сказать, но в то же время знаю. Я знаю, чего хочу. — Правда или действие?
— Ни то, ни другое.
Он поворачивается ко мне лицом и смотрит на меня так,