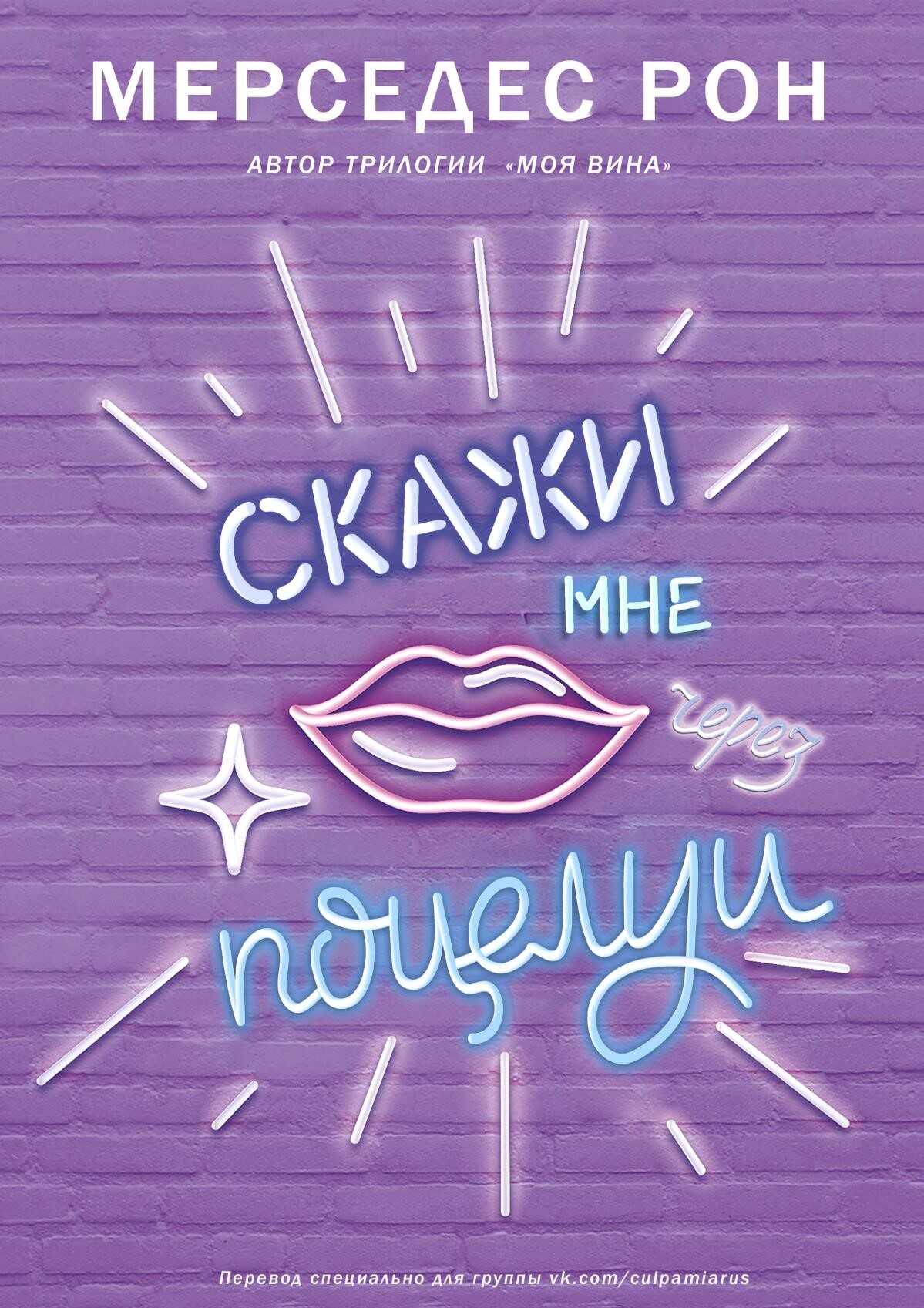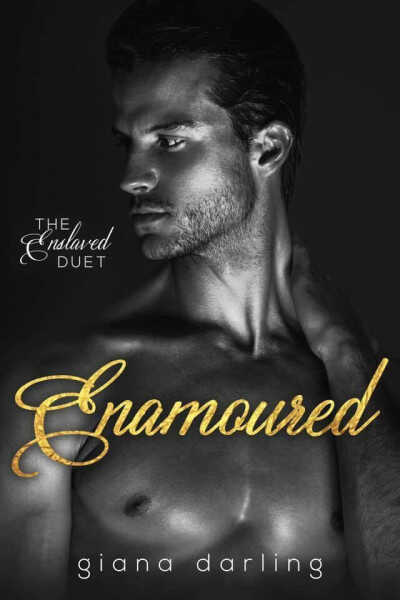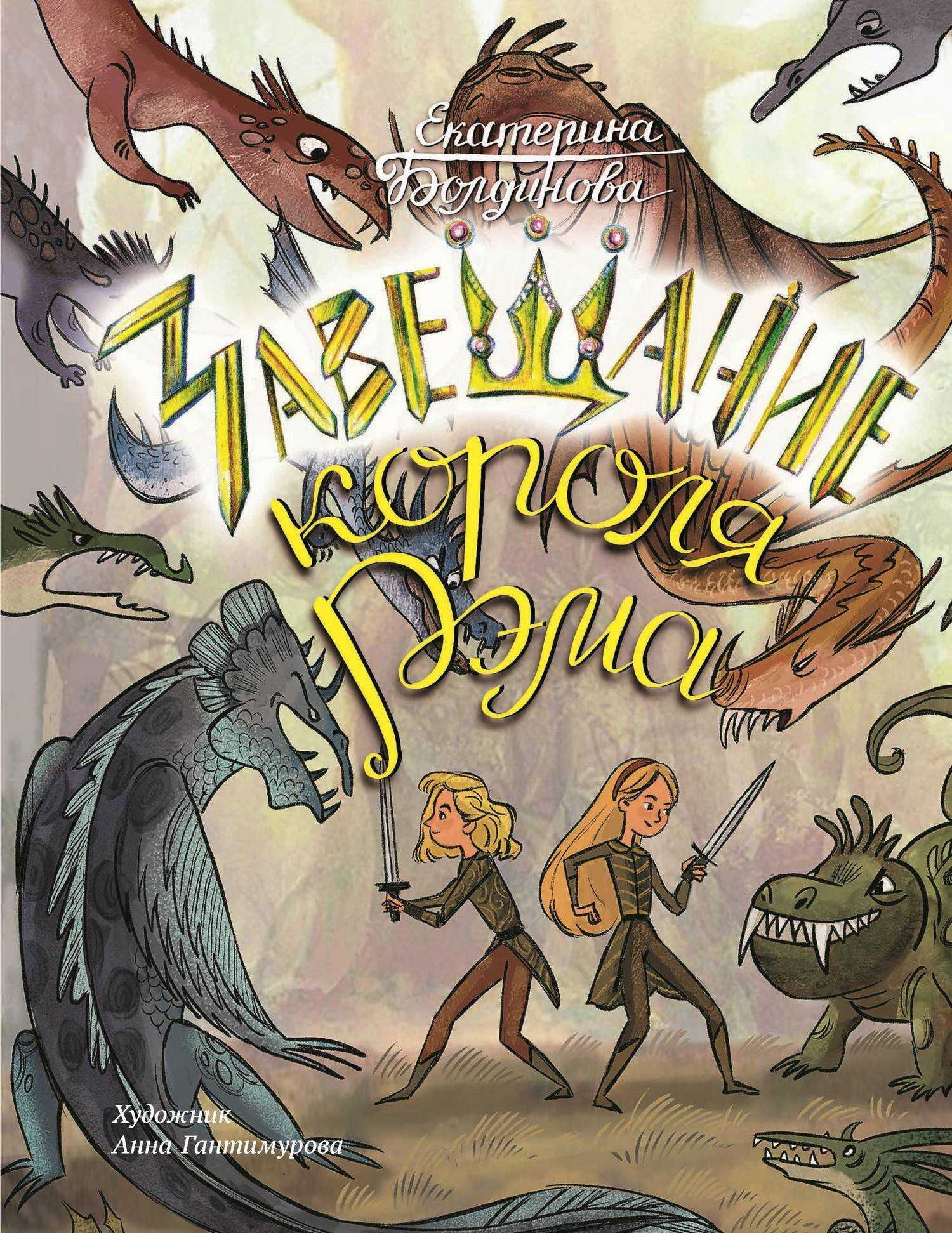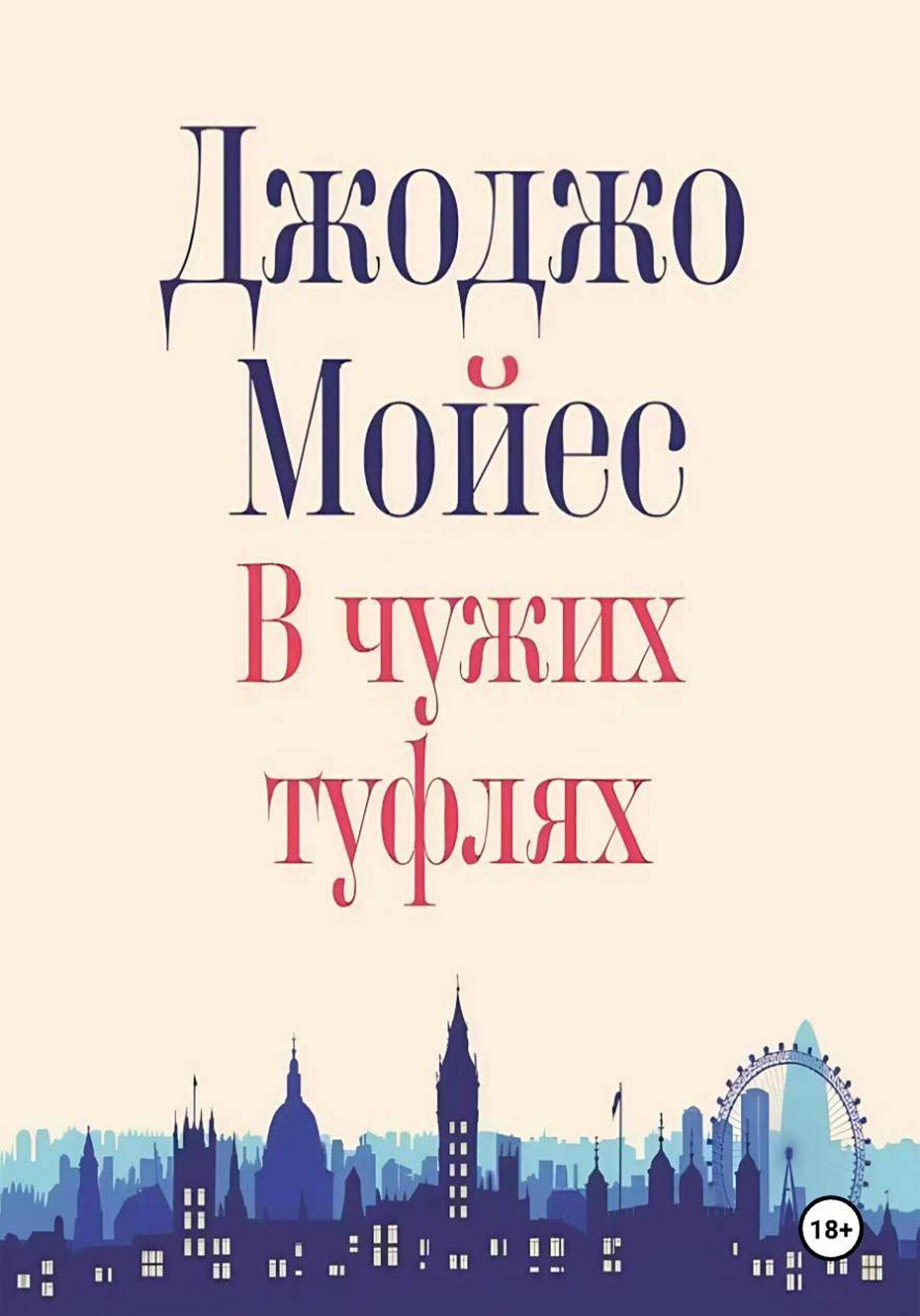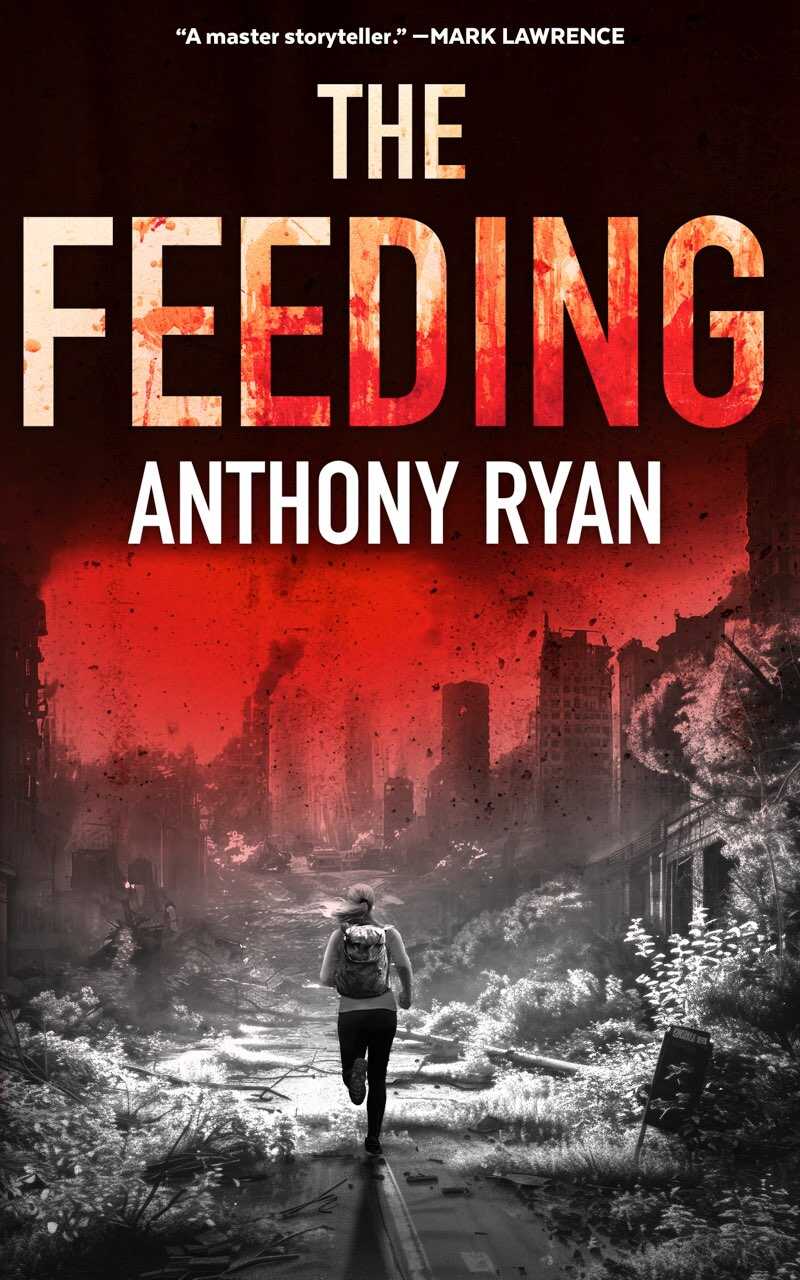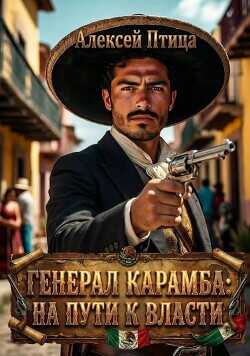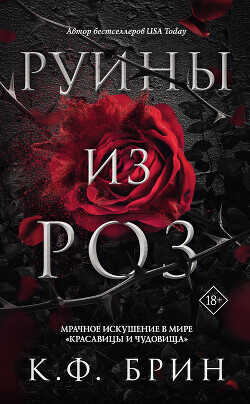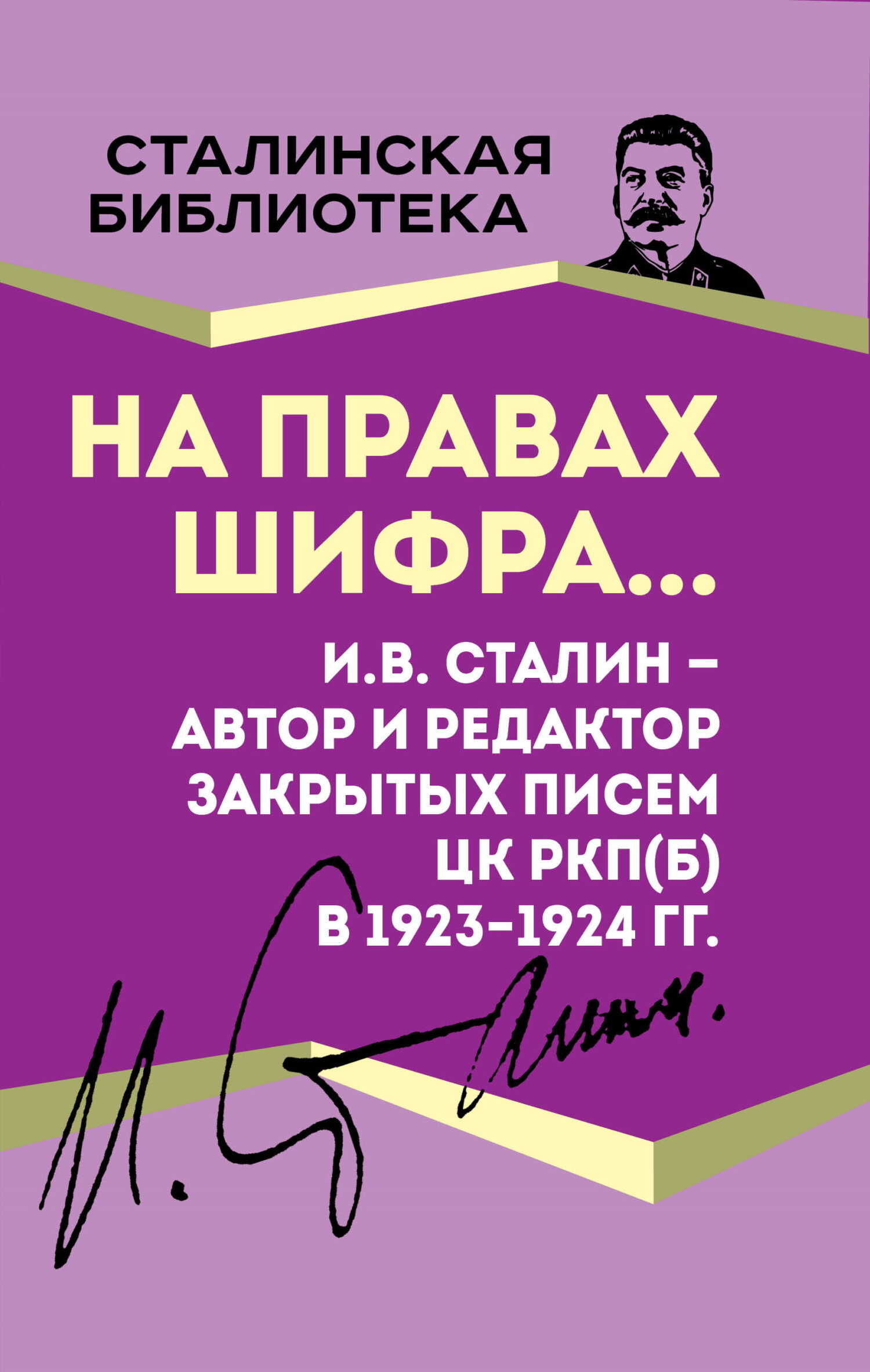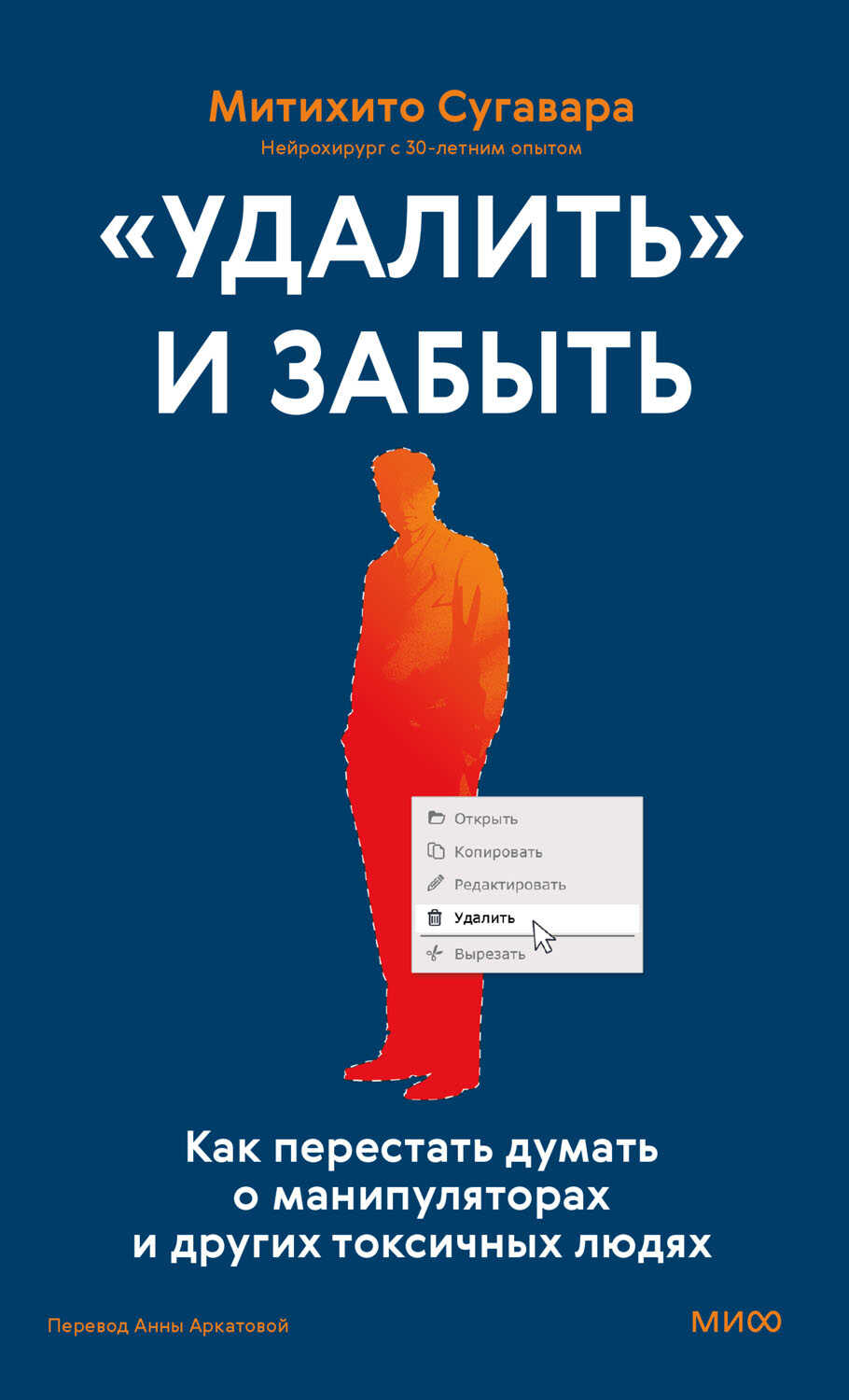к парню, не к возлюбленному или к тому, кем бы мы ни были. Всё было в подвешенном состоянии, но я доверял своей лучшей подруге. Доверял, что, когда мы были вместе, она была счастливее. Доверял, что вместе мы всегда преодолевали все трудности... или почти все.
Я услышал, как дверь внизу закрылась, и вышел из комнаты брата. Спустился по лестнице, и, когда оказался на полпути, увидел в его глазах, что он меня избегает. Он избегал смотреть мне в глаза, потому что знал, что есть что-то, чего он не может мне сказать...
Я почувствовал что-то очень неприятное внутри... Что-то, чего не должно быть между братьями... Что-то, чего не должно было быть там.
— Где мама? — спросил он, снимая куртку с вешалки и приближаясь к лестнице.
— Ты ведь знаешь, где она. — Я почувствовал холод в своем голосе.
Мой брат, похоже, тоже это заметил, но решил не обращать на это внимания.
— Нам нужно что-то сделать... — сказал он, поднимаясь на лестницу. — Она не может так продолжать...
— Я пытался поговорить с ней, но она не хочет слышать ничего из того, что мы ей сказали вчера...
Тьяго прошел по коридору до двери в конце, той самой, на которой все еще были розовые кирпичики, формирующие имя Люси... Он медленно открыл дверь и вошел.
Я последовал за ним, потому что знал, что ему будет нужна моя поддержка... Я пошел за ним, несмотря на то, что каждый раз, переступив порог этой комнаты, мне разрывало сердце.
Моя мать сидела на полу, опершись на маленькую кроватку моей сестры, розовую кровать, которую мой отец заказал сделать специально для нее, и которая была в форме замка... Это был единственный способ, который позволил им перевести ее из манежа на настоящую кровать...
Ее игрушки все еще были расставлены так же, как восемь лет назад. До вечеринки моя сестра играла с чайными чашечками, и они по-прежнему лежали на полу, как она их оставила, чтобы угостить своих плюшевых друзей, которые все еще сидели вокруг маленького деревянного стола, ожидая, когда их хозяйка вернется и наполнит их чашечки вновь — чаем, которого не существовало... Хозяйка, которая больше никогда не вернется.
Ее пижама была в руках у моей матери, которая продолжала нюхать ее, хотя годы уже оставили только запах пыли на голубой ткани с горошками.
Если бы я закрыл глаза, я все еще мог бы увидеть, как она спускается по лестнице, полусонная, с любимым плюшевым медведем в одной руке, как она называла его — бобер Отор, и с другой рукой терла глаза, чтобы окончательно проснуться и начать играть.
Как она играла... и как она была полна жизни...
Я мог бы видеть, как она расставляла свои чашечки для чая и заставляла нас с братом присоединяться к бесконечным чаепитиям... Мне это ужасно скучно было, и я жаловался почти все время, пока продолжались эти игры, в то время как Тьяго молчал и терпел. Люси преследовала нас, куда бы мы ни пошли, и плакала, когда мама не разрешала ей идти с нами, потому что мы были глупыми, и она могла себе повредить что-то...
Мы любили ее всем своим сердцем. И нам ее не хватало каждый день, каждую минуту.
Но нужно было двигаться дальше.
— Мама, — сказал Тьяго, садясь рядом с ней на розовый ковер, который отец постелил, чтобы Люси могла играть на полу и не болели колени. — Тебе нужно что-то съесть...
Мама закрыла глаза, и я увидел, как слезы снова катятся по ее щекам.
— Мама... — я тоже сел рядом с ней и обнял ее плечи. Как мне больно было видеть женщину, которую я больше всего на свете любил, страдающей таким образом... — Пожалуйста, выйди отсюда...
Она покачала головой, крепко держась за свою пижаму.
— Моя девочка... — сказала она, глубоко вздыхая, пытаясь вдохнуть воздух, который иногда так трудно добирался в ее легкие от огромной печали. — Почему она должна была уйти? Почему я потеряла ее?
Ни один из нас не знал ответа на эти вопросы. Это были вопросы, которые мы все задавали себе, и которые так и оставались без ответа.
— Мама, ты обещала, что мы сохраним все ее вещи... Ты обещала, — сказал Тьяго серьезно. Иногда меня удивляло, как он умел говорить с нашей матерью. Он мог перейти от мягкости к требовательности, не моргнув глазом. — Условие вернуться в Карсвилл было начать с нуля... оставить все это позади...
— Я знаю... — сказала она после паузы, поднимаясь с пола.
Она посмотрела на нас обоих и вытерла слезы.
— Вы — самое прекрасное в моей жизни... — сказала она, улыбаясь с грустью, но хотя бы улыбаясь. — Я люблю вас больше, чем вы можете себе представить... Завтра мы уберем вещи из комнаты и отдадим их в церковь, как мы и говорили... Но сегодня позвольте мне поплакать по ее отсутствию... Сегодня я готовила бы для нее торт на день рождения с двумя свечками вместо одной...
Мне стало больно на сердце, и я представил, что описывала мама.
Люси, двенадцать лет... Люси с ее светлыми, кудрявыми волосами, зачесанными назад или в косички, как она любила... Люси, спускающаяся по лестнице полусонная... Люси, задувающая свечи и открывающая подарки...
Я встал и, проходя мимо нее, поцеловал ее в макушку.
— Как ты хочешь, мама. — Я вышел из комнаты сестры, не забыв взять чашечку из фарфора, на которой Люси неуклюже нарисовала мое имя...
Это... это я оставлю себе.
ЭПИЛОГ
ТЬЯГО
Следующий день был трудным... Нам пришлось упаковать все вещи моей сестры и сложить их в коробки, чтобы попрощаться. Моя мама оставила себе несколько вещей, таких как ее пижаму, ее игрушку, и, вероятно, еще кое-что, что она уберет в коробку, чтобы всегда видеть, когда ей станет невозможно справиться с тоской по ней.
Мы отнесли все это в церковь на главной площади города и сказали ей прощай. Затем мы заехали на кладбище и оставили цветы, не в силах сказать ни слова.
Когда мы уходили, я наклонился и оставил рядом с розами леденец.
— Для тебя, Лу... — сказал я, с трудом улыбаясь. — Но не ешь его до ужина.
Я закрыл глаза и почти услышал ее смех в ответ. Она никогда не слушалась... Каждый раз, когда я давал