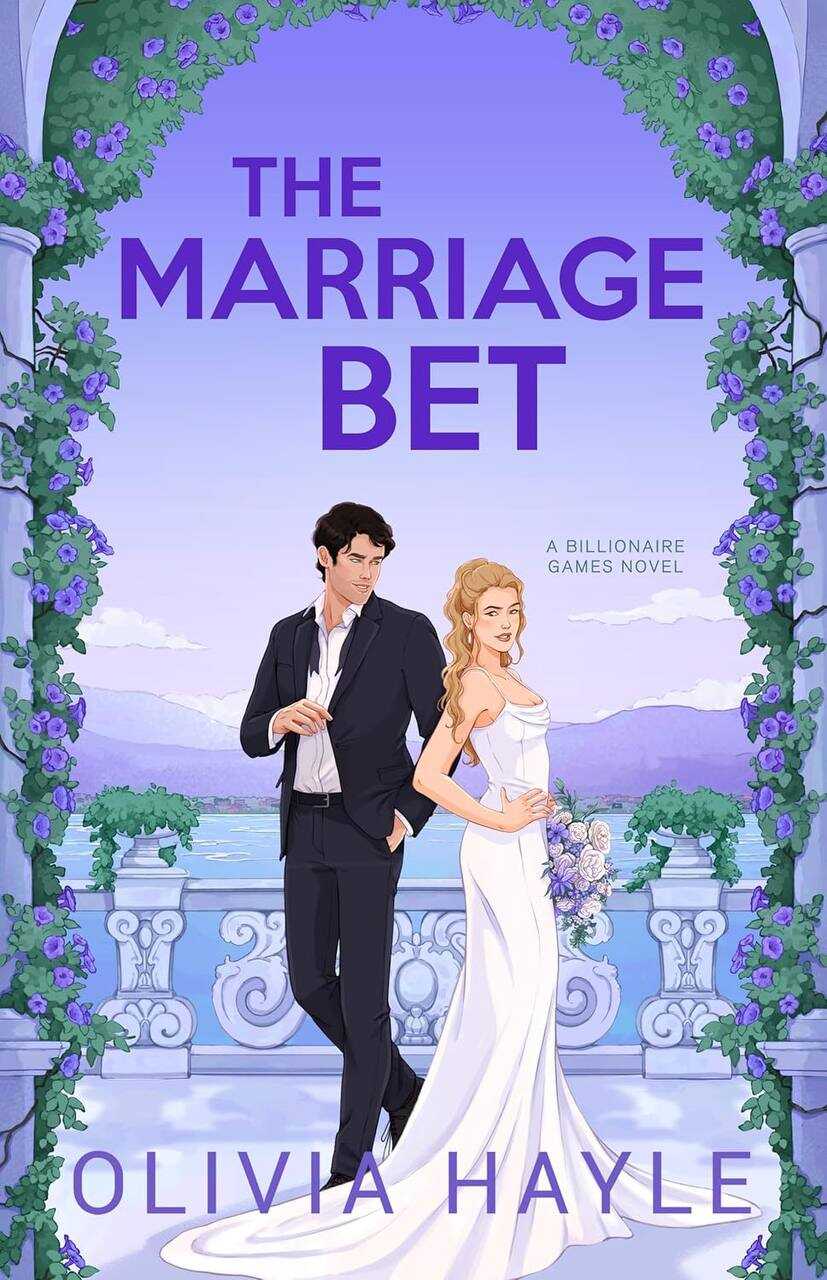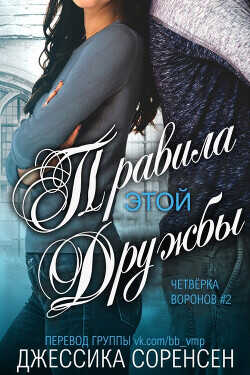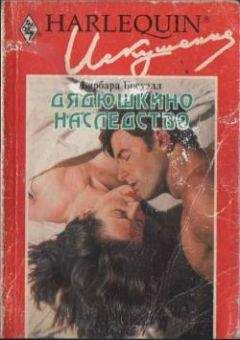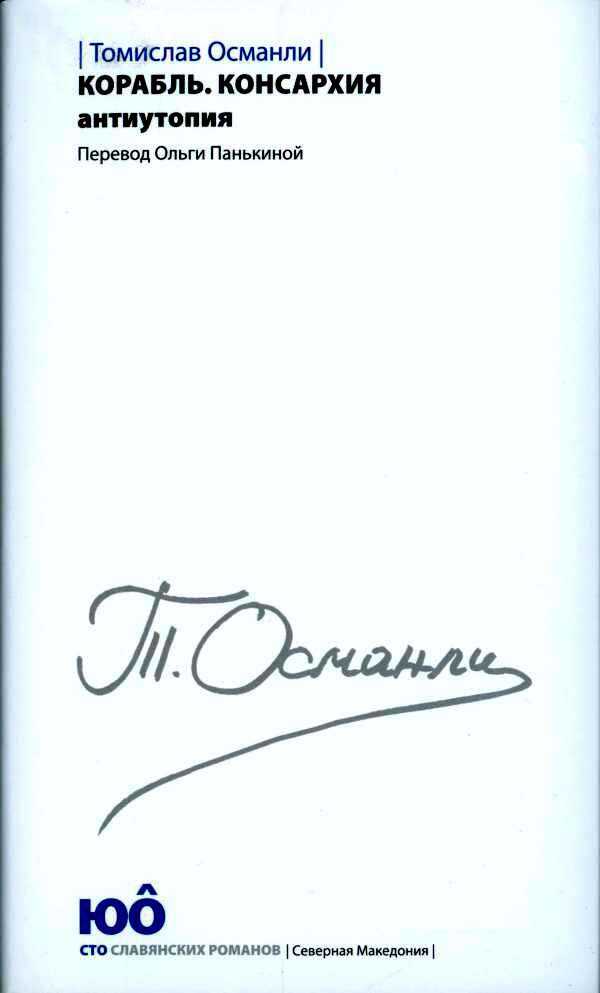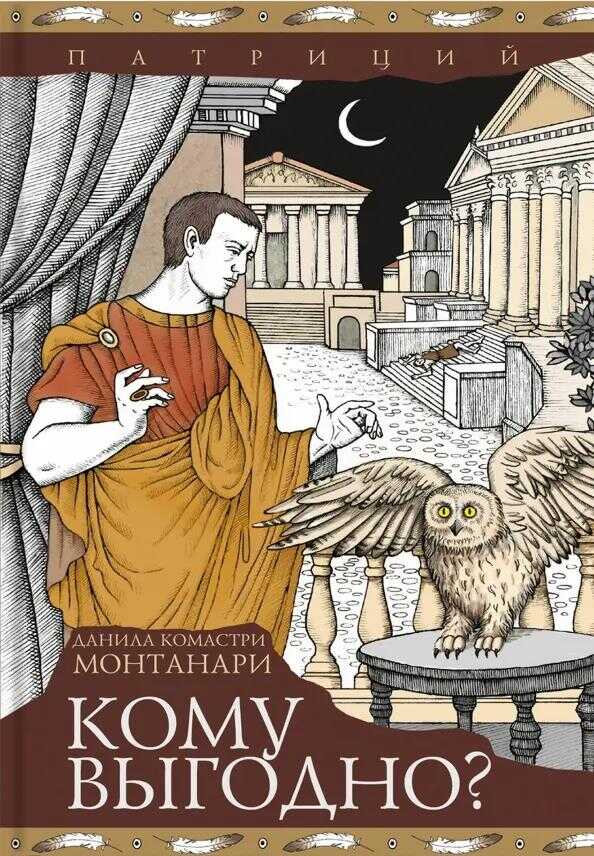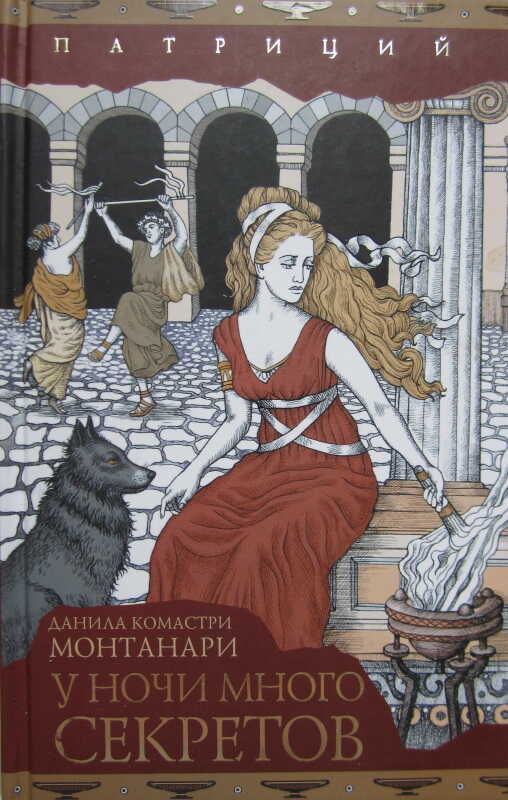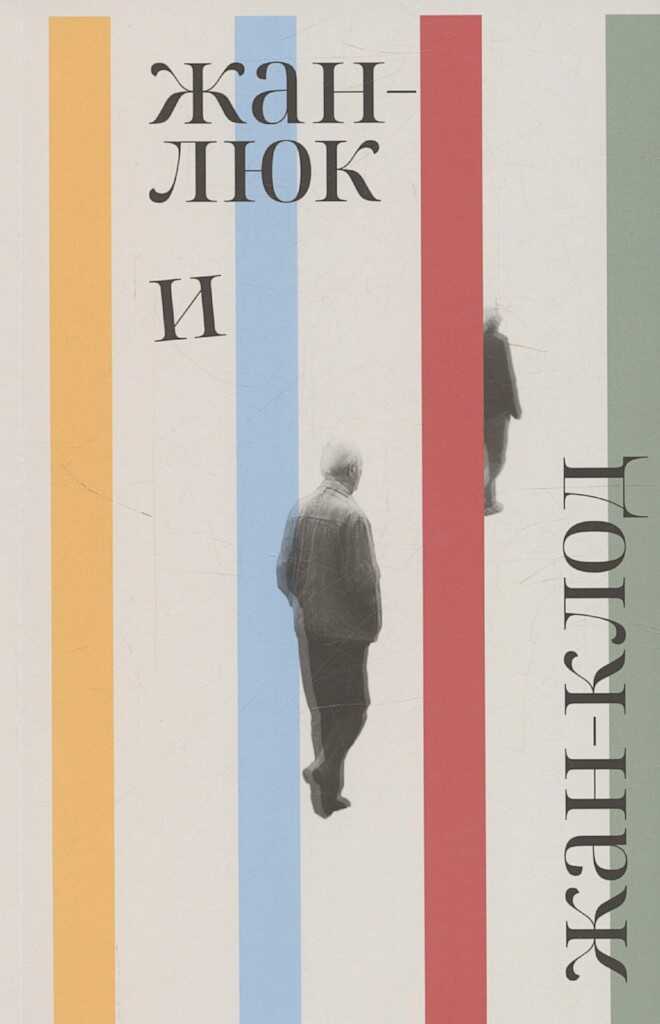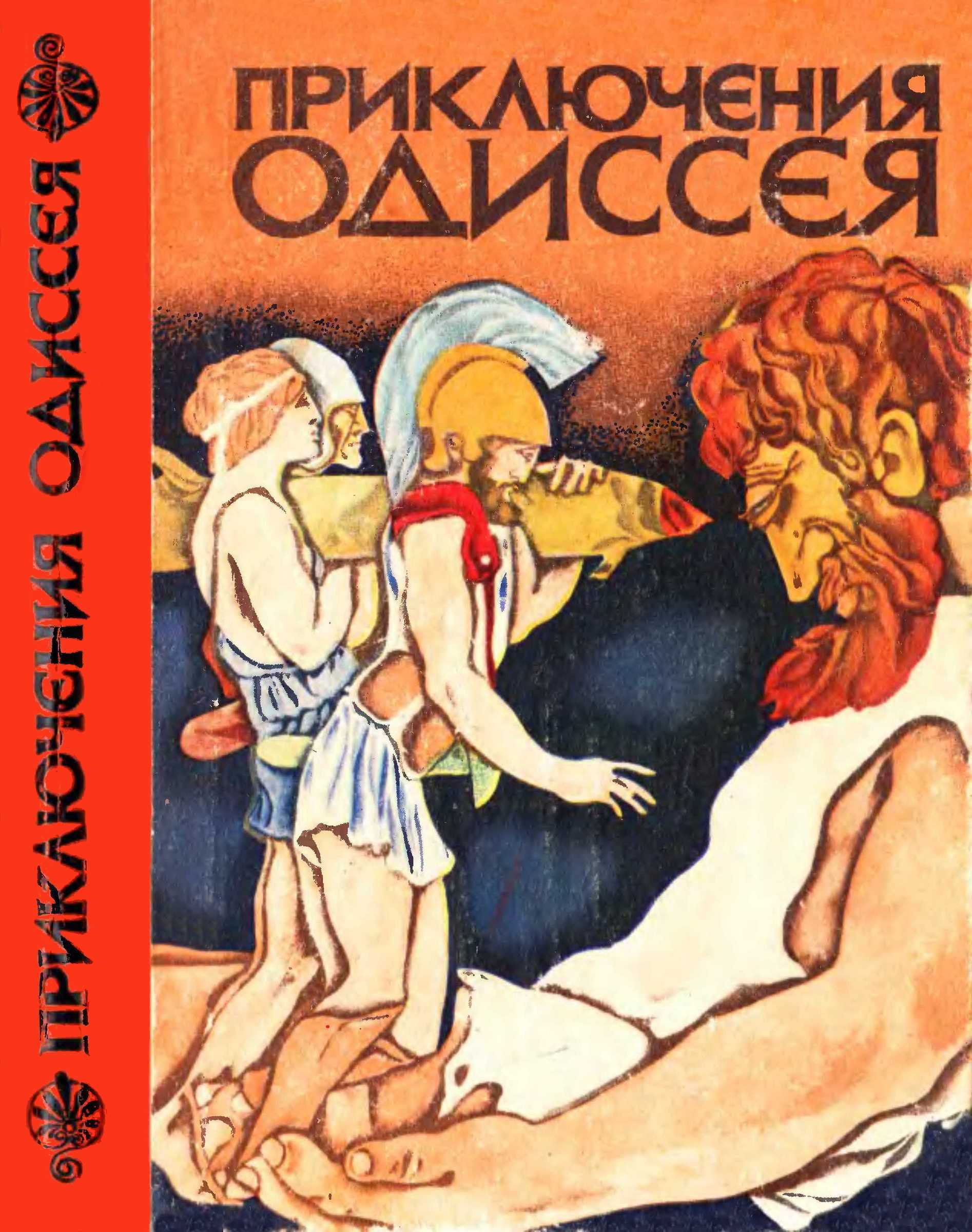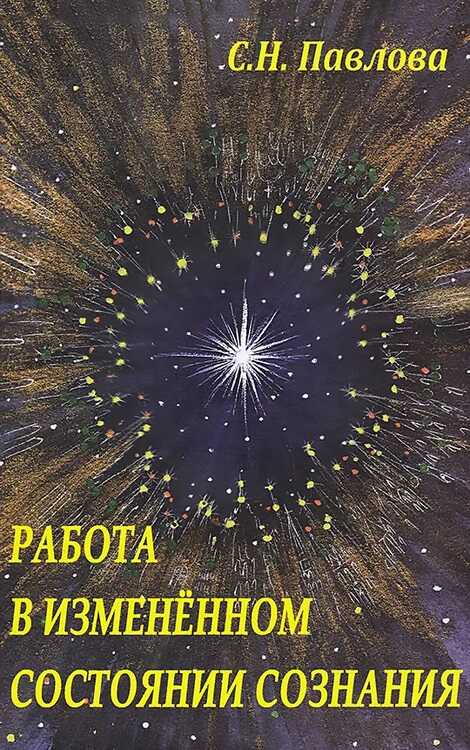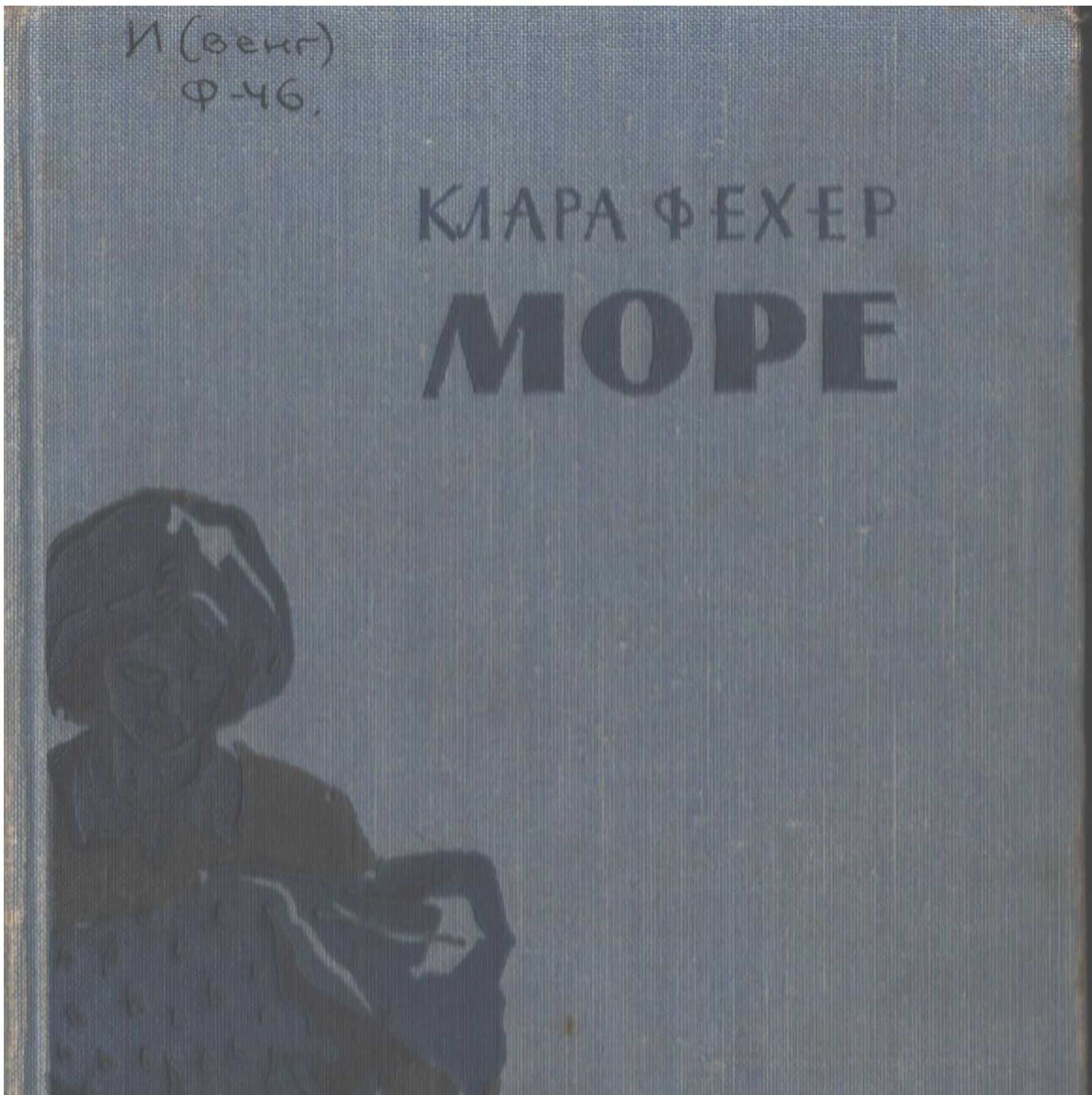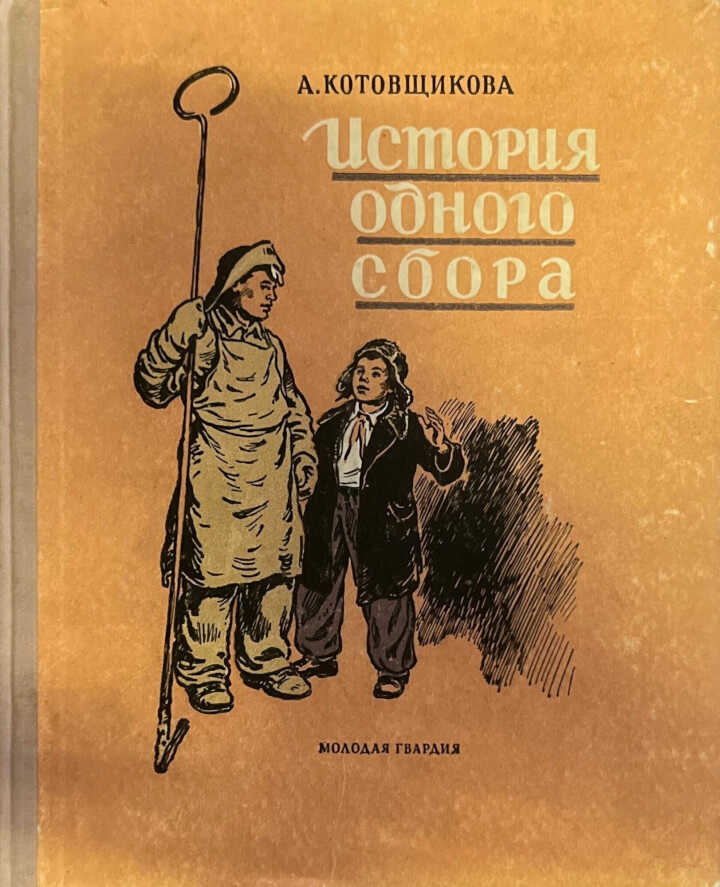спрашиваю я у ее виска.
Она хихикает. Смешок затихает так же быстро, как начался, и она стонет.
— Голова.
— Таблетка скоро должна начать действовать.
— М-м, — она немного поворачивается и плотнее прижимается ко мне. Долгую минуту единственный звук — ее дыхание.
Ее тело все еще дрожит, но не так сильно, как раньше.
— Можешь рассказать мне что-нибудь? — спрашивает она.
— Рассказать что?
— Что угодно. Просто… поговори со мной. Расскажи о Швейцарии.
— Швейцарии?
— Это твой дом. А твой голос… очень приятный, — у нее снова стучат зубы, и я крепче обнимаю ее.
— У меня не так уж много, что можно сказать, — начинаю я. Потому что так и есть. — Я уехал ребенком. Но мы часто приезжали сюда, кататься на лыжах или навестить родственников. Посетить фабрику, — говорю я. Мы редко разговаривали так. Спокойно и без намека на спор. Моя рука находит обнаженную кожу над ее вечерним платьем, она обжигающая.
— Ты такой интернациональный.
— Раскидан по трем странам, да, — говорю я сухо. — Моя мать быстро привыкла к Франции, но большую часть лета мы проводили в США с ее семьей.
Не может быть, чтобы ей было интересно это слушать.
— Три… языка, — бормочет она. Ее голос изможденный. Я поворачиваюсь на спину, чтобы крепче держать ее. Ее голова ложится мне на плечо, и я натягиваю одеяло еще выше. Я начал потеть. Чувствую, как от ее жара, у меня собирается пот у висков.
— Четыре, если считать уроки немецкого, — говорю я.
— Немецкого тоже? — ее голос звучит настолько возмущенно и одновременно так слабо, что у меня растягиваются губы в улыбке.
— Да. Это третий официальный язык Швейцарии, но мой самый слабый.
— Ненавижу тебя, — бормочет она у моей шеи.
— Знаю, дорогая. Я тоже тебя ненавижу.
Это звучит как один из первых искренних комплиментов, которые мы когда-либо давали друг другу.
— Ты раздражаешь меня, когда говоришь по-итальянски или по-французски, — говорит она. — Мне не нравится не понимать тебя.
— Знаю. Поэтому я так и делаю.
— Я догадалась, — она вздыхает, и это странно похоже на удовлетворение. — И раздражает, как хорошо у тебя это получается. Это еще и сексуально.
Моя рука замирает у нее на спине.
— Сексуально?
— Да, — говорит она со вздохом.
Что ж. Приятно это знать.
Еще несколько долгих минут она не говорит. Просто дрожит с меньшей и меньшей интенсивностью. Возможно, нам придется остаться здесь и весь завтрашний день. Я могу это устроить. Нужно просто сказать Кариму, что планы изменились, и…
— Раф?
— М-м?
Ее голос рядом с моей шеей, а рука перекинута через мой торс.
— Зачем ты это делаешь? Дерешься?
Я смотрю на потолок. В отеле в дереве есть замысловатый ромбовидный узор, едва заметный в темноте. Над нами висит люстра. Хрупкие маленькие капли хрусталя — каждая хрупка сама по себе, но сильна в сочетании с другими.
Она загнала меня в угол и использует это, чтобы задать свой вопрос. Я не могу не уважать ее за это. Она всегда играла чертовски хорошую игру.
— Раф, — говорит она, и это звучит так слабо и в то же время так решительно, что заставляет меня улыбнуться.
— Нелегко объяснить, — говорю я.
— Думаю, тебе следует остановиться, — бормочет она. — Не возвращайся в то место. Это было ужасно.
Я не говорю об этом. Ни с кем. Джеймс приходил со мной в тот раз перед свадьбой, но молчал почти все время, а потом передал мне бутылку воды. Вот и все.
Он достаточно умен, чтобы не читать нотации другим о вредных привычках.
Но это не значит, что он понимает. Не уверен, что кто-либо понял бы, если бы я попытался объяснить. Как это смывает с меня вину, делая ее терпимой.
— Это не мое обычное место. Когда я в Комо, я имею в виду. И редко все бывает таким… напряженным, как когда ты пробралась туда.
Когда мне пришлось драться, чтобы покрыть ее проступок. Это было жестоко: так, как я редко позволяю себе. Не получать по лицу, не разбивать кожу на костяшках. Уклоняться, бить, побеждать.
И я был чертовски напуган, увидев ее там. Ей там было не место.
— Не делай этого снова, — говорит она.
— Не могу этого обещать, — говорю я и делаю глубокий вдох. Ее волосы хорошо пахнут, свежие после недавнего душа. Это единственный способ справиться с раздирающей виной, которая иногда грозит меня утопить. Боль хороша для этого. Она очищает.
— Ты заставил меня пообещать никогда не возвращаться туда снова, — говорит она. — Почему ты не можешь пообещать мне то же самое?
— Это другое. Тебе там не место.
Она усмехается. Это слабый поток воздуха у моей шеи, так отличающийся от ярости и смеха, которые она обрушивает на меня в обычный день.
Я касаюсь губами ее волос.
— Тебе не все равно?
Я не думаю, что она ответит мне. Но затем она отвечает, ее рука лежит на моих ребрах. Прямо над шрамом, который, я знаю, она заметила, но еще не спрашивала о нем.
— Я не могу… тратить мой хороший тональный крем… на тебя. У нас не совпадает цвет.
Я улыбаюсь, глядя на потолок.
— Я куплю тебе еще. Сколько угодно.
— Мне не нравилось видеть тебя раненым, — говорит она. Еще одна дрожь пробегает по ней. — Это просто не… приятно.
Мне требуется несколько попыток, чтобы найти нужные слова. Возможно, она не вспомнит этого утром. Но я вспомню. И сомневаюсь, что когда-нибудь забуду.
— Мне тоже не нравится видеть тебя больной. Или когда у тебя панические атаки.
Она вздыхает так тяжело, что светлая прядь у ее щеки взлетает в воздух.
— Что ж. Я не планировала, чтобы ты это видел.
— Я тоже не планировал, чтобы ты видела, как я дерусь. Но ты все равно нашла туда путь, — говорю я. Она, кажется, хороша в этом. Находить пути через маленькие трещины, пробираться в них, расширять их, пока не пролезет целиком.
Создавать пространство там, где его нет.
— Думаю, я… начинаю тебе нравиться. Я знаю, это нехорошо для меня, — она зевает, и я провожу рукой по ее волосам. Они распущены сейчас. Мне никогда раньше не доводилось трогать их так свободно, но сейчас я глажу ее голову и спускаюсь вниз по спине. — Но я не могу ничего с собой поделать.
— Знаю, дорогая. Я тоже ничего не могу с собой поделать, — мои губы прижимаются к ее лбу, и в груди возникает странное сжатие. Словно она и это раскрыла настежь. — Но интересно, вспомнишь ли ты что-нибудь из этого завтра.
Ответа нет.
Она уснула, отключилась