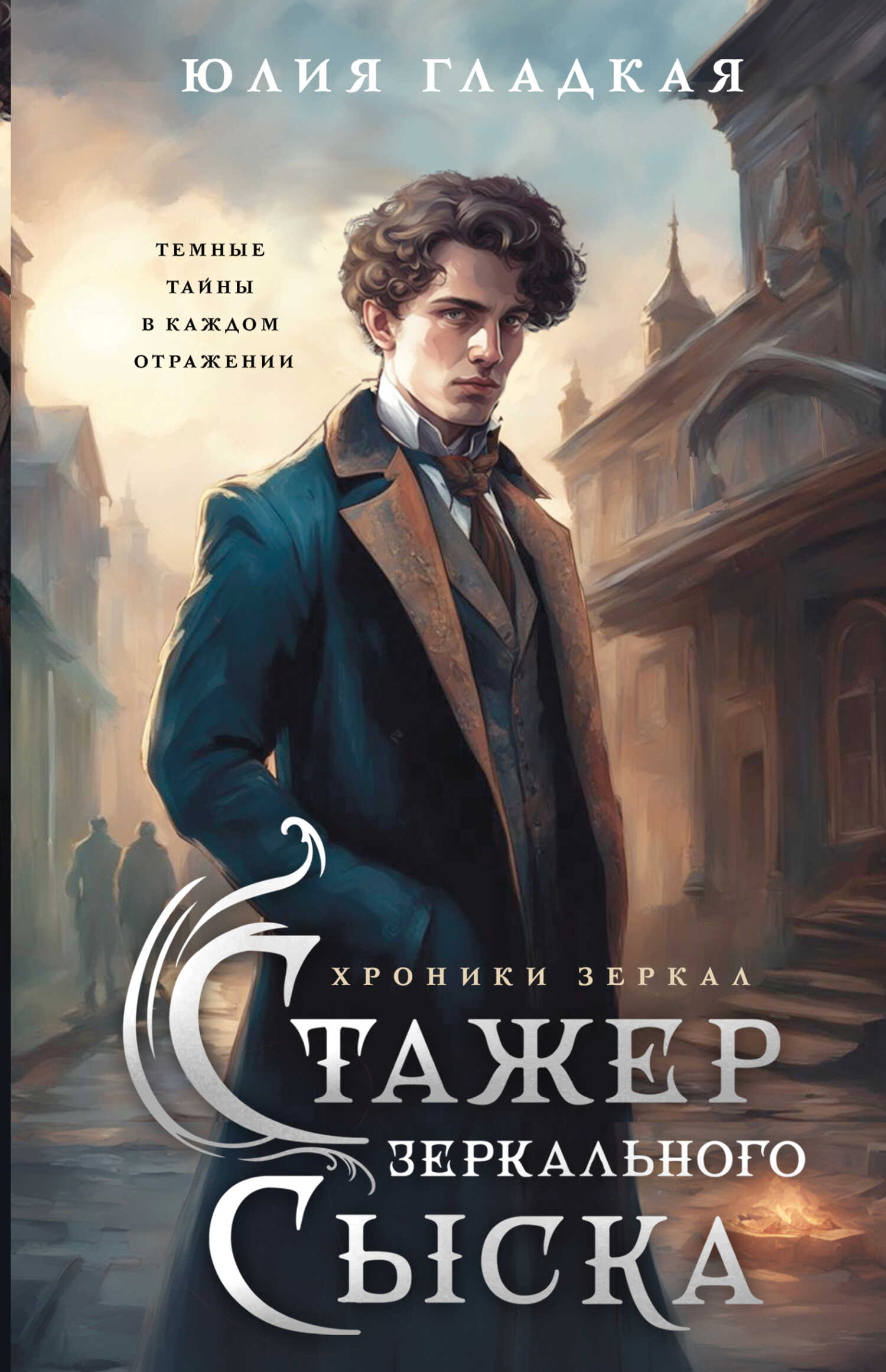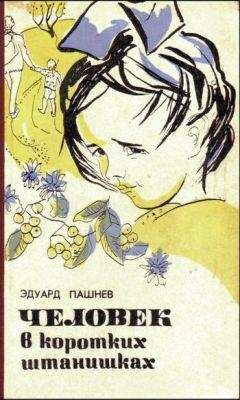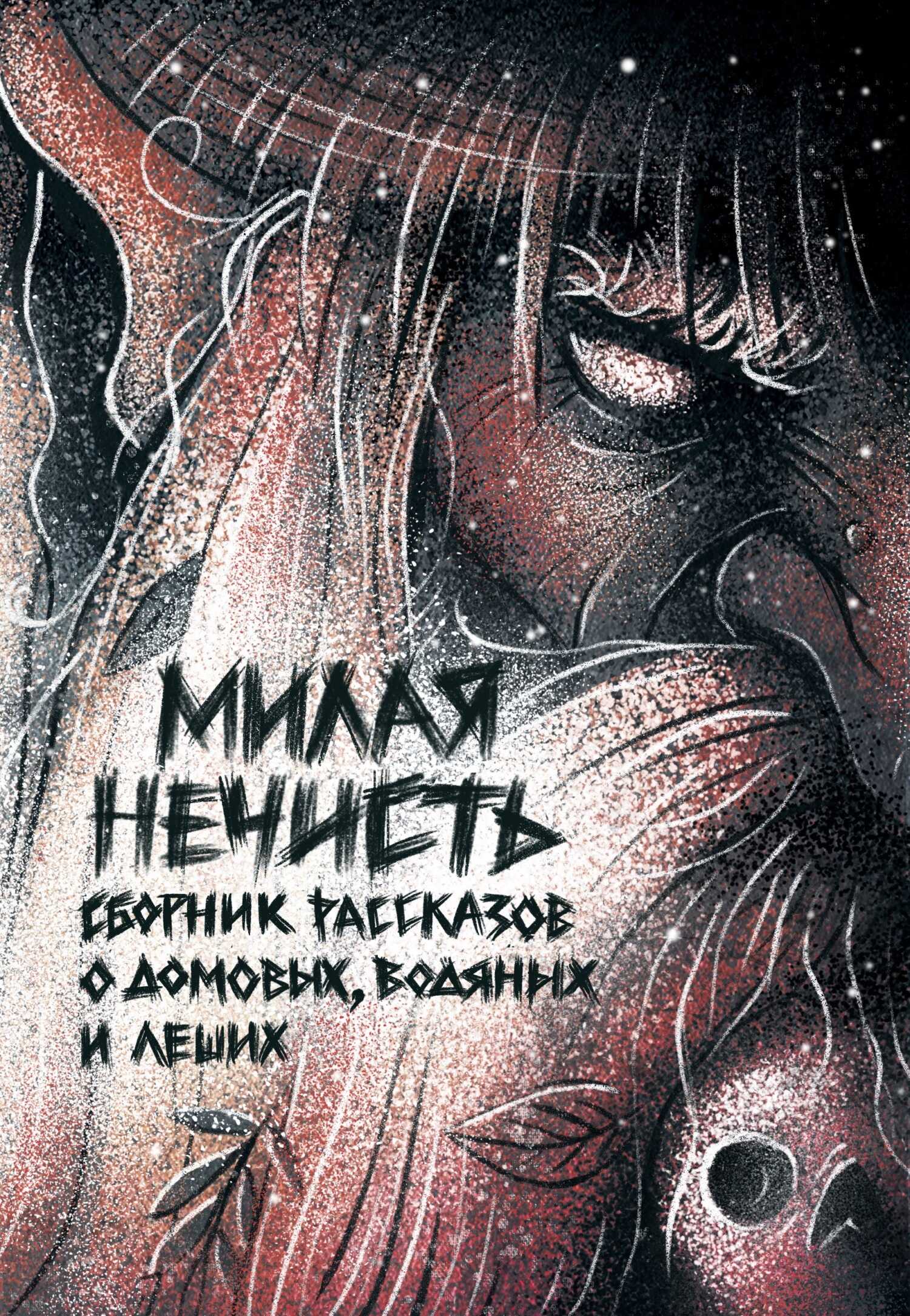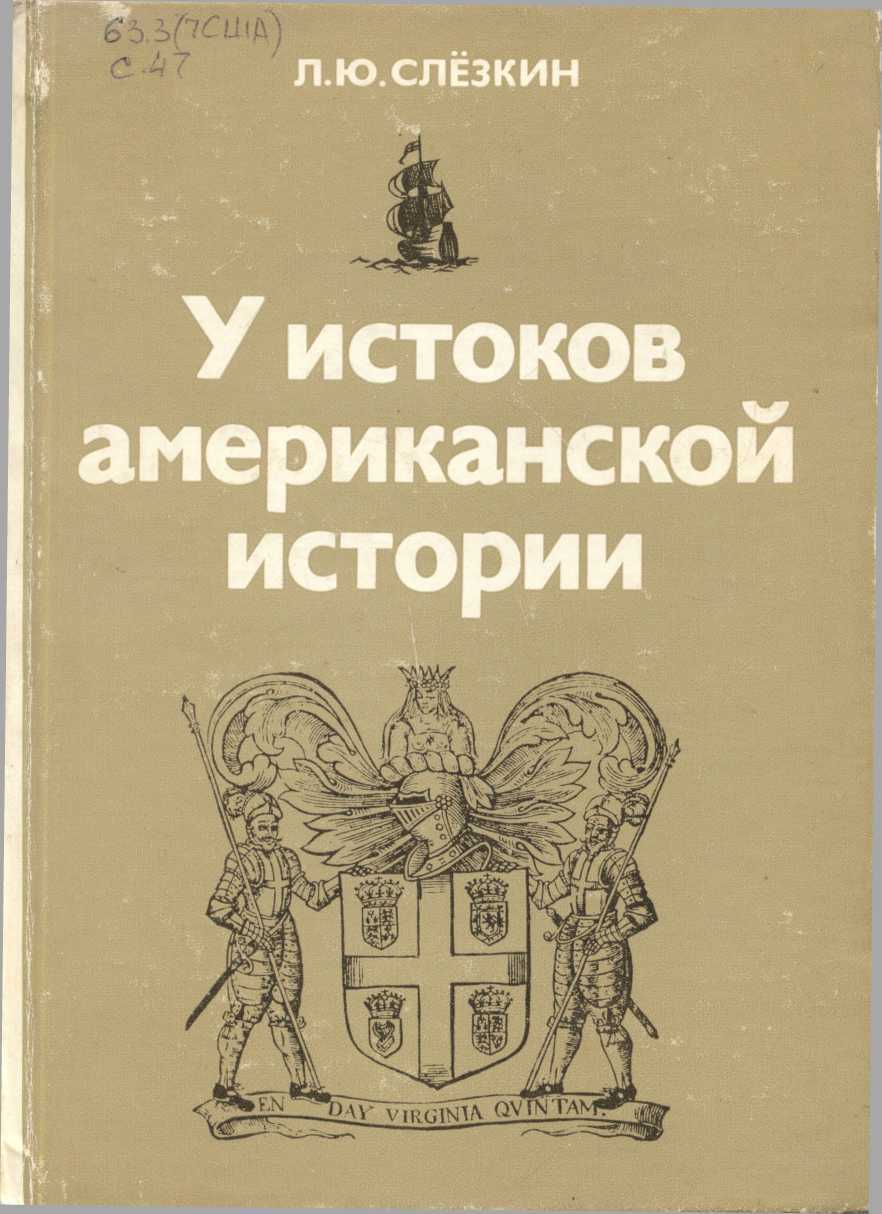того позвал, чтобы обсуждать ведьм, а чтобы сдержать слово.
Митя ощутил напряжение — по спине побежали мурашки:
— Я готов, — тут же заявил он.
— Погодите, не торопитесь. — остановил его Алексей. — Я, как вы знаете, не маг и потому ничем вам помочь не могу. Но я познакомлю вас с тем, кто может. И вот там уж как звезды сойдутся, понимаете? — Бывший маг кивнул. — Вот и славно. — Алексей стал серьезен. — Идемте за мной и не отставайте, пожалуйста.
Калека сдвинул рычаг, и его паровая коляска пришла в движение. Трубы загудели, выдыхая белесые облака и заставляя колеса вращаться. Алексей доехал до дальнего угла и остановился под бархатной портьерой:
— Сдвиньте ее, Демидов, — потребовал он.
Митя послушно выполнил поручение. За тканью, конечно же, скрывалось зеркало, однако имелась в нем одна особенность — у серебристого стекла не было рамы. Оно точно вырастало из пола, образуя подобие арки.
Едва свет попал на стекло, как оно пошло рябью, создавая портал. И вот уже Алексей, двинув рычаг, въезжает внутрь, оставляя Митю позади.
Бывший маг оглянулся напоследок, точно пытаясь запечатлеть в памяти этот подземный кабинет, а затем поспешил за калекой.
Они оказались в каком-то доме. Широкая, уводящая вверх лестница раскинулась по обе стороны от фонтана, отделанного мрамором. Митя взглянул в него и удивленно присвистнул.
— Матушка любит золотых рыбок, — пояснил Алексей, подъезжая к краю фонтана. — Они ей кажутся исполняющими желания.
— Матушка? — удивленно переспросил Митя, но прежде чем Алексей успел ответить, расписные двери по правую руку от них распахнулись, и в холл вышла женщина. Темные кудри, седая прядь… Бывший маг глянул на Аделаиду Львовну и едва не шлепнул себя по лбу — вот чей точеный профиль напоминал ему лицо Алексея! Как он мог быть так слеп?
— Мальчики! — волшебница улыбнулась. — Рада вас видеть. Стол как раз накрыт к чаю — идемте? — Она подошла ближе и нежно поцеловала Алексея в щеку.
— Матушка, ну зачем же… — смутился калека. — Мы не одни.
Аделаида Львовна рассмеялась, и смех ее, как хрустальный колокольчик, наполнил дом:
— Да разве ж для матери это важно? К тому же Дмитрий Тихонович, наверняка все понимает. Так ведь, Митя? Я могу вас называть этим именем?
— Почему нет? — Митя пожал плечами. — Конечно, как вам будет угодно.
— Ну тогда, Митя, Лешенька — идемте пить чай, пока блинчики не остыли! — И волшебница пошла рядом с коляской, положив руку на плечо сына.
Митя же шел позади них и пытался понять: знает ли эта женщина о том, что делает ее сын? Или, может, он все это творит по ее приказу? Последняя мысль казалась неуместной, но, с другой стороны, многое объясняла. Например, осведомленность организации, финансирование и поддержку. Такая зеркальщица, как Аделаида Львовна, вполне могла стоять у истоков перемен. Но зачем? Как та, которую называют легендой, избрала подобный путь?
Словно читая его мысли, Аделаида Львовна обернулась:
— У вас, Митя, наверное, тысяча вопросов? Так я с радостью отвечу. Ведь, как я знаю, вы не только приняли нашу сторону, но и защищали моего сына? А для матери это самое важное.
— Вы правы, вопросы имеются, — Митя кивнул, но решил не упорствовать. — Однако аромат блинчиков просто сводит с ума — даже мысли путаются.
— Ах, вы льстец! — Волшебница погрозила ему пальцем, но Митя видел, что она довольна. — А Лешенька не сказал мне, что вы такой милый. Впрочем, я могла бы и сама догадаться по тому, как вы переживали за Клавдию Александровну. Понравились ей цветы?
Митя сбился с шага:
— Да… благодарю, понравились. — Он нахмурился. Ему не нравилось упоминание госпожи Старгородской в этом доме. Впрочем, он был готов к любым неожиданностям. А они, кажется, только начались.
Войдя в богато обставленную гостиную, бывший маг сразу приметил Лютикову. Торговка стояла в углу, точно часть интерьера, и нервно теребила концы платка, накинутого на плечи.
«Что она тут делает?» — успел подумать Митя, но Аделаида Львовна отвлекла его внимание от Лютиковой.
Алексей подкатил свое кресло к столу, укрыв колени складками шерстяного пледа. Его руки — бледные и тонкие, с едва заметной дрожью — потянулись к блинам.
— Митя, присаживайтесь вот сюда — как раз напротив Лешеньки будете, а я уж свое кресло займу. Не правда ли, приятно выпить чаю в компании друзей?
— Даже очень, — согласился Митя, заметив, что Алексей все это время молчит, поджав губы. — Я, право, и не знал, что вы — матушка Алексея Михайловича.
— Таков уговор — абы кому знать об этом не нужно, — призналась волшебница и обвела рукой угощение. — Ну что, скажите, мальчики, славно повариха постаралась?
Гостиная, залитая янтарным светом ламп в хрустале, дышала покоем. На столе, покрытом скатертью с вышитыми незабудками, стоял фарфоровый сервиз — тонкий, почти прозрачный, с позолотой по краям. Самовар, блестящий, как щека провинциального купца после бани, гудел тихо, будто мурлыкал вполголоса.
Блины лежали неровной стопкой — тонкие, с кружевными краями, где-то прозрачные, где-то подрумяненные до золотистой корочки. Рядом в хрустальной розетке темнело вишневое варенье — густое, с едва уловимой горчинкой косточек, а в серебряной икорнице переливались зернистые жемчужины осетровой икры.
Аделаида Львовна, восседая в своем вольтеровском кресле, медленно размешивала ложечкой чай — крепкий, с дымком, с капелькой сливок, превращавших темную жидкость в мутноватый топаз.
— Икру берите, Митенька, — предложила волшебница. — Нынче утром из астраханских поставок…
Митя, не отрываясь от блина, смазанного толстым слоем свежевзбитого масла, лишь кивнул. Масло таяло желтыми слезами, смешиваясь с золотистой икрой, и этот союз соленого и сливочного был совершенен, как петербургский рассвет после белой ночи.
В воздухе витал тонкий аромат корицы — должно быть, от яблочного повидла в фарфоровой вазочке. Чайные пары смешивались с этим запахом, создавая странное ощущение, будто время в комнате остановилось.
— Лешенька, ты кушай, а то эти подземелья совсем тебя утомили, — Аделаида Львовна ласково взглянула на сына, но тут же резко дернула головой:
— Матушка, вы же знаете, что я всегда бледен. К чему эта игра?
— Ну зачем ты так? — казалось, волшебница огорчилась. — Разве я не могу принять сына и его товарища у себя, будто бы за окнами нет хмурого Петербурга и вся система, в которую вписан и