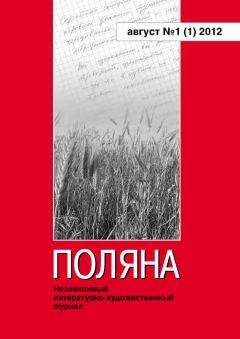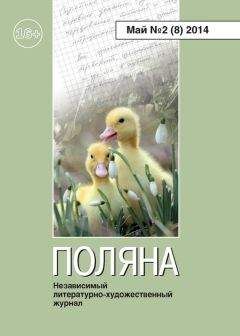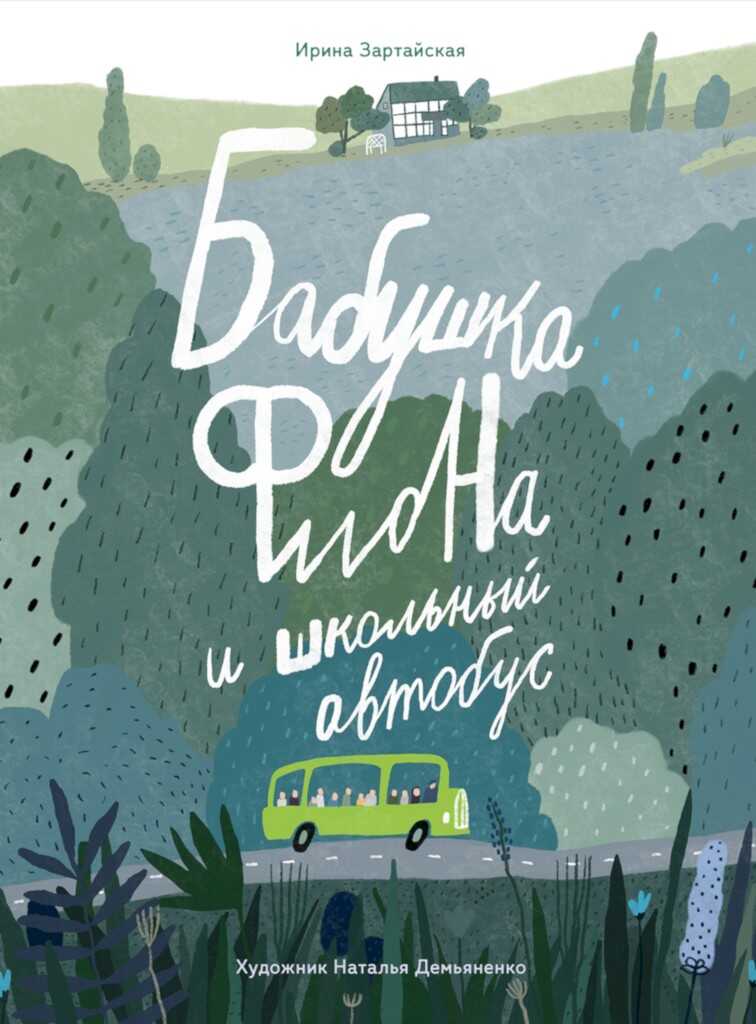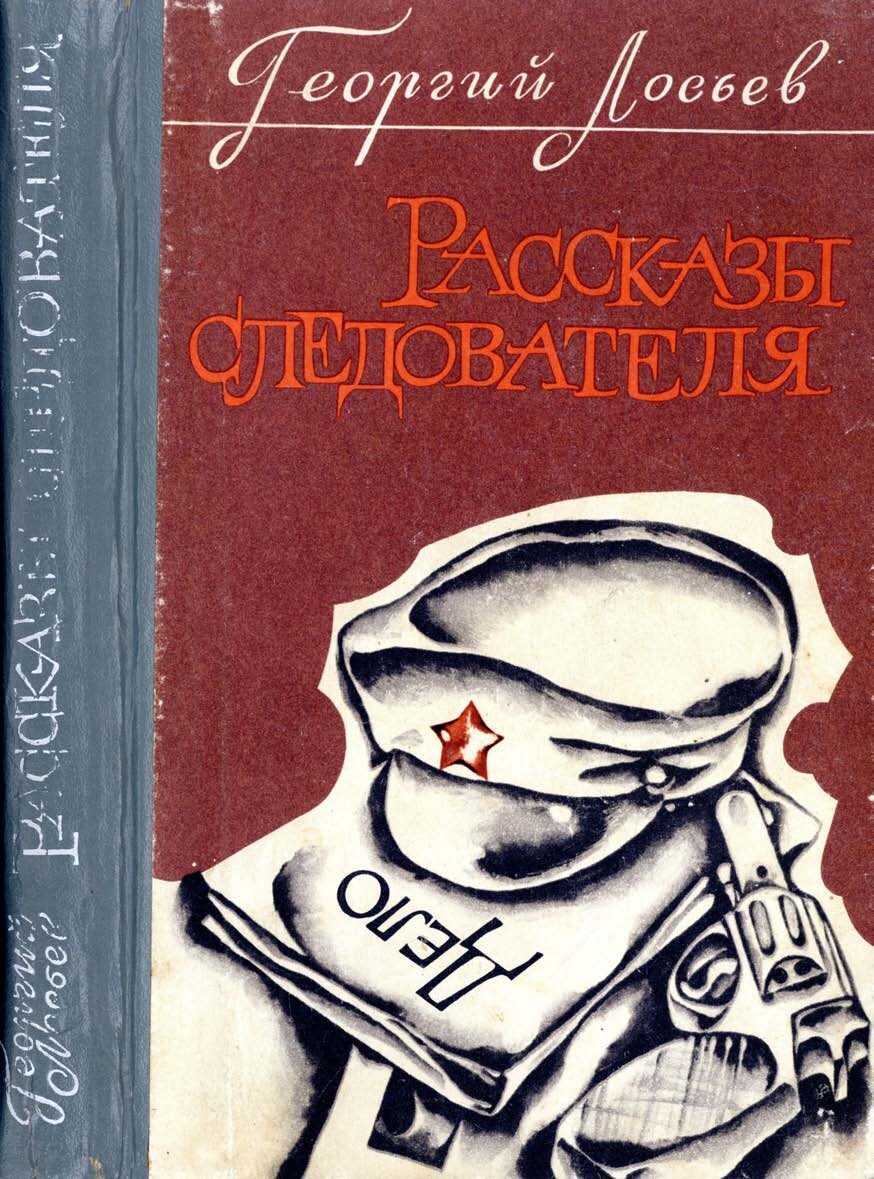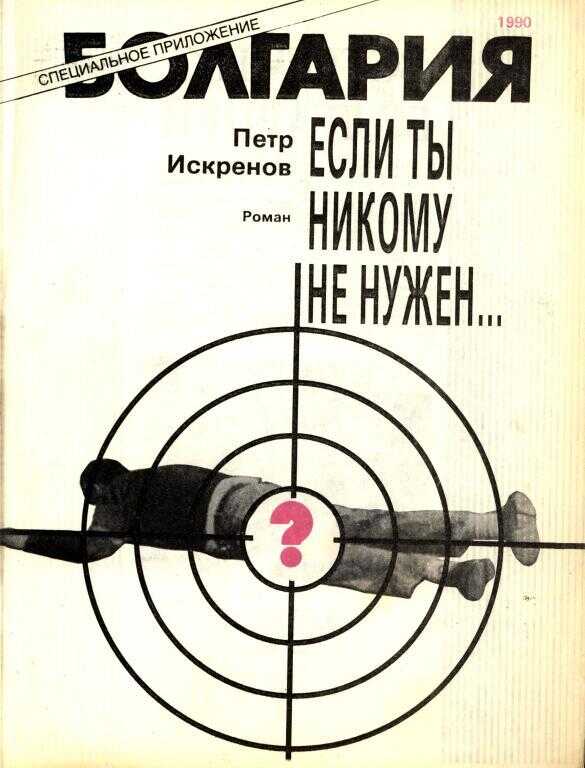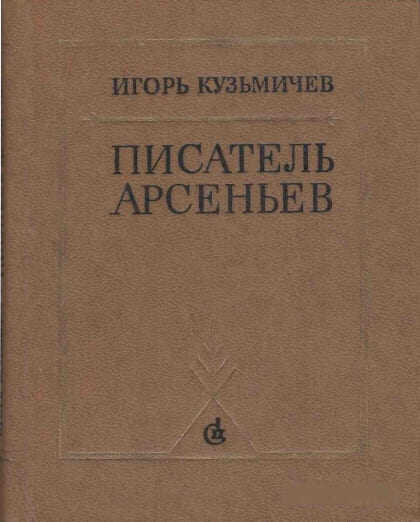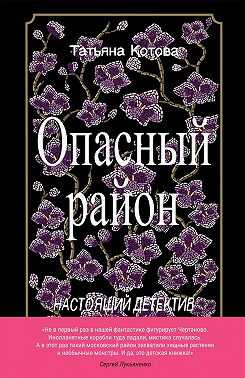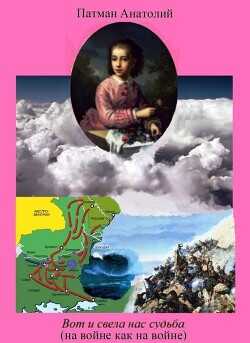Тогда они так решили: опять сходить под землю и спросить ее, куда их души делись?.. Потому что, думали они, что потеряли там, под землей, души, когда почти умерли… Пошли… то есть и не пошли… Во время налета сильного артиллерийского в блиндаже – это такая землянка – прятались, а снаряд рядом разорвался, и опять вход засыпало, но они там не одни были – откопались потом, а пока сидели, землей запертые, и спросили потихоньку землю… что стало с ними?.. И она им ответила, что остались под землей их души до той поры, пока война не кончится… а когда кончится, если они забудут все, что с ними было, от радости – так и останутся жить надолго, но никого и ничего жалеть не будут, а если заплачут, когда война кончится, вернутся к ним души, а сколько они с ними проживут – никто не знает. Потому что, когда жалеешь – жить тяжелее…
Воевали они долго потом, и всяко с ними бывало, забыли под конец об этом обо всем, а когда война кончилась, поехали по домам… и горько заплакали… Почему? У одного немцы всю деревню сожгли вместе со всеми, кто в ней был… В церковь согнали и сожгли… а у другого всех евреев выловили, в гетто собрали, оцепили колючей проволокой и тоже убили, и в ров бросили… Заплакали они горько-горько… и вернулись к ним души… Живы, живы они… А зачем души вернулись? Наверное, чтобы они жалеть других научили…
– Я тебя про войну просил… а ты мне… а ты мне сказку…
– Нет, Малыш, к сожалению, это правда… Только это – правда про войну… вот поэтому про войну никто и не рассказывает… – все равно не поверят…
Андрей Кунарев Из цикла «Голоса»
На то и рыцарь, чтоб являть отвагу
На то и рыцарь, чтоб являть отвагу,
И, на потеху вкруг столпившихся зевак,
Пришпорив Росинанта-бедолагу,
Бесстрашно атакует он ветряк.
…Придя в себя, полураздавленный, —
Невероятно, но ещё живой! —
Толпой тупиц шутом ославленный,
Упрямо шепчет: «Завтра – в бой!»
Июнь. Две тысячи восьмой.
Дожди.
За власть грызутся меж собой
Вожди.
А мы за чашей круговой,
Мой друг.
Всё так же узок, боже мой,
Наш круг.
Печально? Что ж, судьбы иной
Не жди.
Всё ниже тучи над страной.
Дожди…
Град Елабуга уездный —
Галки, ели, край земли —
В стороне дорог железных —
В небе стонут журавли…
Кама-матушка широко,
Вольно волны катит вдаль.
Что, Марина, одиноко?
Грудь сосёт тоска-печаль?!
«Чёртов город с городищем,
Спас заглохший, пустыри…
Мы на пару с ветром свищем
От зари и до зари…»
Шаль на плечи – в пляс пуститься,
Руки в боки – в горле ком.
Обезуметь, с круга спиться
И – не помнить. Ни о ком.
Бога нет, когда нет веры.
Глушь. Елабуга. Война…
Дни свинцовы, очи серы.
Душно. Узел. Тишина…
Увы, слепцу неведом свет прозрений
Увы, слепцу неведом свет прозрений —
хоть сдохни на кресте иль на колу —
и неудавшихся стихотворений
я ворошу печальную золу.
Вини меня в цинизме, даже трусости —
пожалуй, хоть во всех грехах подряд.
Кто говорил, что не сгорают рукописи?
Не верь. Я знаю: здорово горят.
Владимир Липунов (Хлумов) Сухое письмо
Из «Книги писем»
Прочтите, пожалуйста,
и отдайте врагу народа
Витольду Яковлевичу,
для исправления.Сегодня вы прочтете мое письмо. С этого дня вы меня уже никогда не забудете, а значит, не забудете и ЕГО. Мне двенадцать лет. Сегодня умер ОН. Я не могу написать ЕГО имени, потому что горе станет нестерпимым, и я сделаю это раньше, чем напишу письмо. А я должен написать, обязательно должен, чтобы вы не подумали, что мой поступок – каприз мальчика-подростка. Да, эта мысль меня очень мучает и терзает. Я все думаю, как бы вы не решили, что я еще слишком мал и делаю это несознательно, от испуга, что ли. Не думайте, пожалуйста, так. Я давно повзрослел, я родился в начале войны, а военные дети быстро взрослеют изнутри. Когда я родился, мои папа и мама очень полюбили меня, потому что шла война и мужчин стало не хватать. Нет, не о том. Я перескочил. Рано. Я хочу еще что-нибудь вам о причинах моего поступка сказать, мне все кажется, что вы мне не поверите, что у меня был сознательный план. Плохо, что мне мало лет. Плохо и хорошо. Хорошо, потому что вы меня никогда не забудете и, значит, не забудете и ЕГО.
Я родился в начале войны, а военные дети быстро взрослеют. Когда я родился, мама сильно обрадовалась, а папа счастливый ушел на фронт. Но я этого, конечно, не помню, а пишу так, чтобы вы могли понять, что я могу догадываться о чувствах других людей, даже взрослых. Это потому, что я много думал. Поэтому мне не надо все испытать самому, ведь и взрослые правильно судят о многом, чего не видели. Раньше я любил радио, а теперь я ненавижу радио. Мне теперь кажется, что тяжелый магнит вставлен ему внутрь для того, чтобы притягивать злые вести. Хорошо, что я не буду больше никогда слушать злые вести. А говорят, что скоро появится радио, в котором вместо тяжелого магнита будет специальная форточка, через которую будет видно человека, который передает последние известия. Вот здорово. Один мальчик, правда, сказал – я не буду называть его фамилию, пусть ему станет стыдно, и он сам признается воспитательнице – этот мальчик сказал, что такое радио с форточкой уже есть у некоторых людей. Конечно, вранье. Потому что ОН не допустил бы такой несправедливости, чтобы что-то у одних уже было, а у других еще не было. Я думаю, что ОН, если бы ЕМУ предложили иметь лично такое радио, конечно бы от него отказался. Потому что это было бы несправедливо. Но, конечно, такое радио обязательно сделают, но счастья у вас полного не будет, потому что не будет ЕГО уже никогда. А я ЕГО видел живым! Но сначала я ЕГО не знал, не знал, что ОН такой.
Когда кончилась война, отец пришел с фронта и меня отправили в детский сад. Это время я помню. Очень помню, потому что мне стыдно за себя. Сейчас, прежде чем я заберусь на табуретку, я должен обязательно признаться в этом. Но не только, чтобы очистить совесть. Моя совесть чиста! И я докажу это делом. Но я должен признаться, чтобы вы лучше поняли мою любовь к НЕМУ. Так вот, было время, мне стыдно за себя и горько, было время – я не любил ЕГО. И не только не любил, даже не уважал, и даже хуже, гораздо хуже, был момент, когда я ненавидел ЕГО! Вот. Вот и написал. Написал и стал сомневаться, искуплю ли я свою вину, даже если сделаю то, что задумал? Но нет, пусть не думают враги советской власти, что у меня возникли сомнения. А я знаю, сейчас, в эти страшные дни могут поднять голову ЕГО враги, могут предать ЕГО светлое имя. Так узнайте обо мне, вдумайтесь, прежде чем нападать и разрушать, есть ли у вас такой ребенок, есть у вас дети, способные совершить то же, что и я, ради ваших разрушительных идей? Да, был момент – я ненавидел ЕГО. Но ведь вы сами, Витольд Яковлевич, заявляли, что истинная любовь та, что родилась из ненависти, и что истинная вера приходит через неверие. Так что выходит, и с вашей точки зрения мое детское заблуждение ничего не опровергает.
Когда кончилась война, отец пришел с фронта, и у него на груди был орден. Отец часто садил (это слово было зачеркнуто и вставлено «жал», но после снова восстановлено) меня на колени и орденом колол мою щеку. Но я не жаловался, не чувствовал боли, мне наоборот от боли было хорошо и тепло на его коленях сидеть. И я радовался вместе с ним, что кончилась война, и что я есть у него, и что он есть у меня. Очень родители меня любили, но еще больше любили ЕГО. Например, принесут домой хлеба, сядут кушать и обязательно скажут спасибо ЕМУ. Или купят мне обнову и обязательно ЕГО добрым словом помянут. И тут я, несмышленый, позавидовал ЕМУ и стал плохие мысли о НЕМ думать. Мне вдруг горько стало, что родители любят больше меня какого-то чужого человека, и вспоминают ЕГО постоянно, и хвалят ЕГО, хотя ОН совсем никакая нам не родня и никогда даже дома у нас не побывал. Теперь я знаю, что это называется ревность – проклятый пережиток, злобное пятно, не добитое Гражданской войной. Но нехорошие мои чувства вскоре прекратились, потому что не было для них условий.
Кончилась война, и я поступил в детсад. А в детсаде нянечки ласковые, добрые, детишек любят, но еще больше любят большого красивого дядю на портрете. Да так сильно любят, что с утра до вечера вместе с детишками песни благодарности про дяденьку поют. Конечно, мне теперь смешно вспомнить, как я остолбенел, когда понял, что дяденька на портрете и ОН – один и тот же человек. Как же я тогда обрадовался! Что же я, оболтус, завидую ЕМУ и злюсь на папу с мамой, если все люди любят ЕГО больше, чем себя. Вы, Витольд Яковлевич, когда нам про Достоевского рассказывали, несколько раз повторили: все могут любить одного человека, только если он бог, а бога нету. Зачем вы это сказали, Витольд Яковлевич? Нет, видно, не зря вы враг народа, вы думаете, что раз дважды два четыре, то вы и правы? Так узнаете же вы скоро, что хоть дважды два четыре, а все-таки я сделаю это. И тут, я думаю, и произойдет ваше перевоспитание. И зачем вы специально Ленина без НЕГО употребляли? Ленин, он только задумал, а сделал ОН, слышите, Витольд Яковлевич! И директор нашего любимого детского дома тоже говорил, когда я с ним советовался. Можете с ним поспорить потом. Только раньше, я думаю, вы и сами исправитесь и перевоспитаетесь, потому что правда одна. Слышите, одна! И поэтому я скоро встану на табуретку и спрыгну с нее, чтобы всегда быть вместе с НИМ в ваших делах и в ваших мечтах.