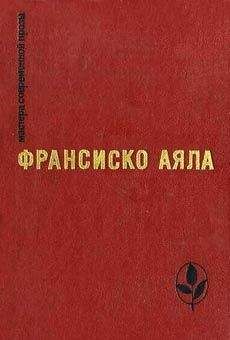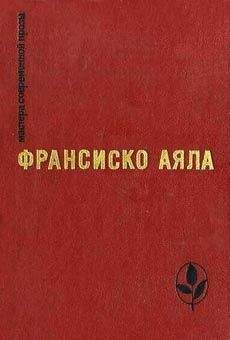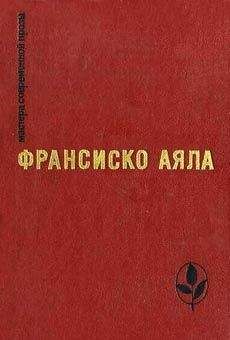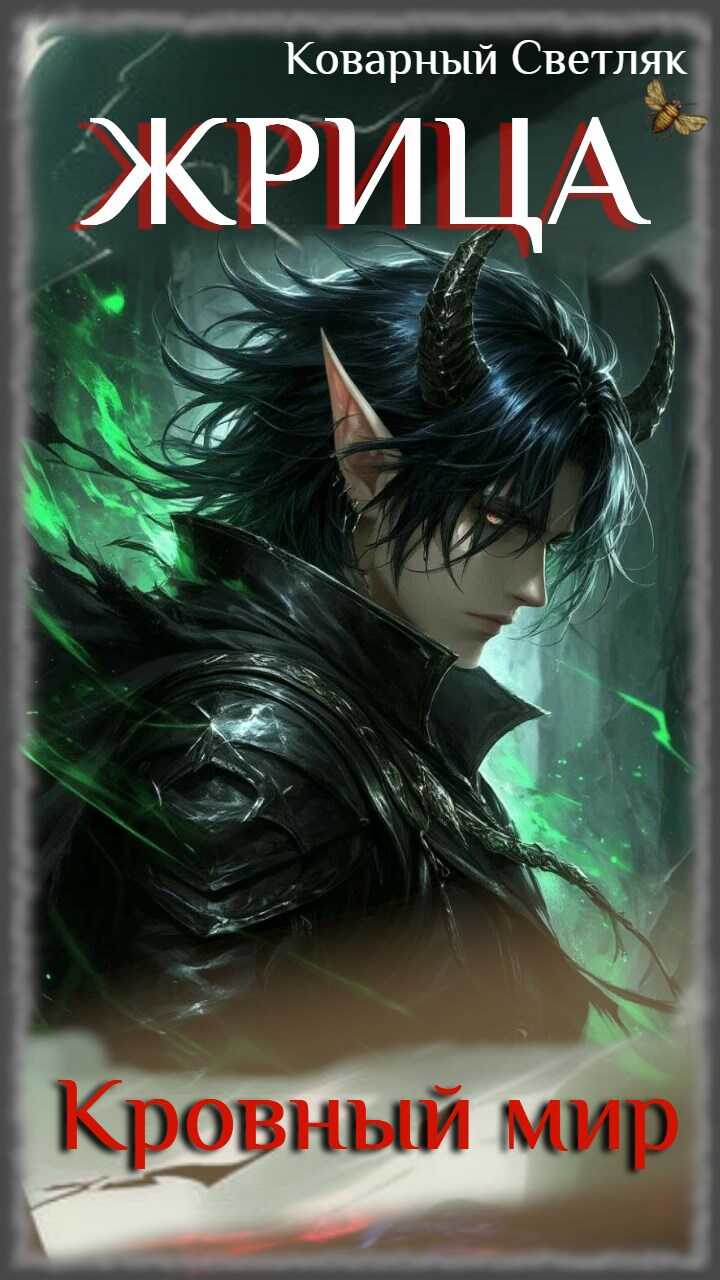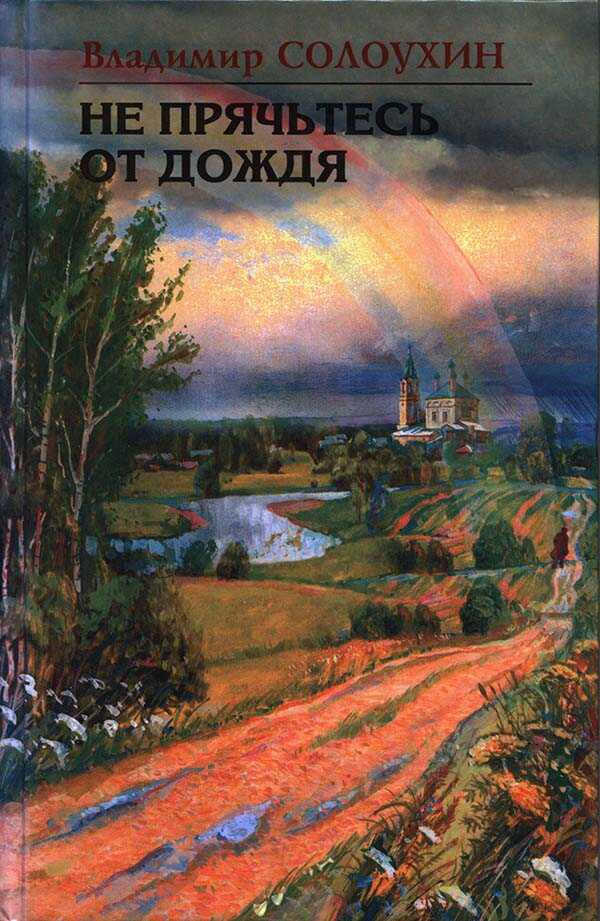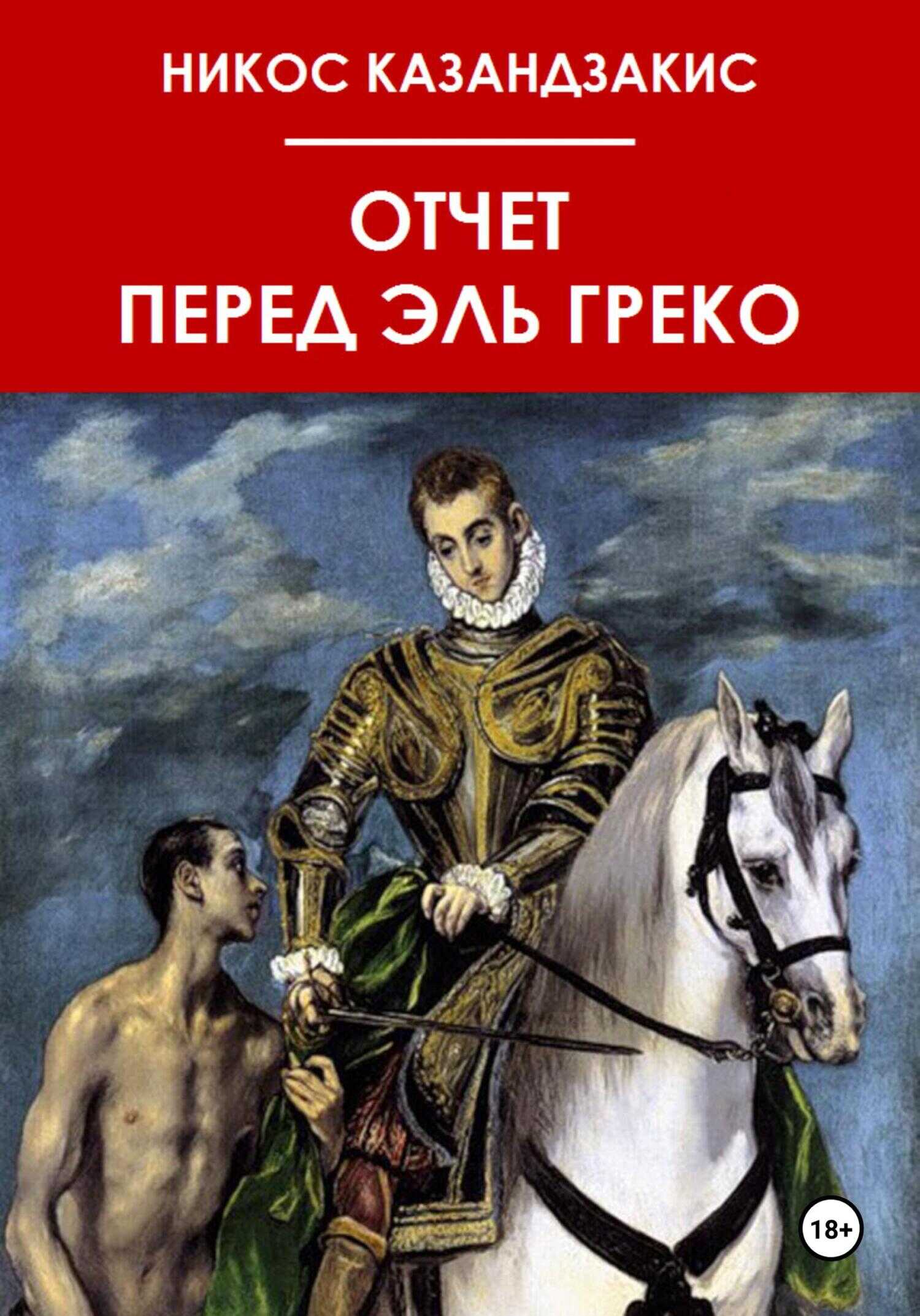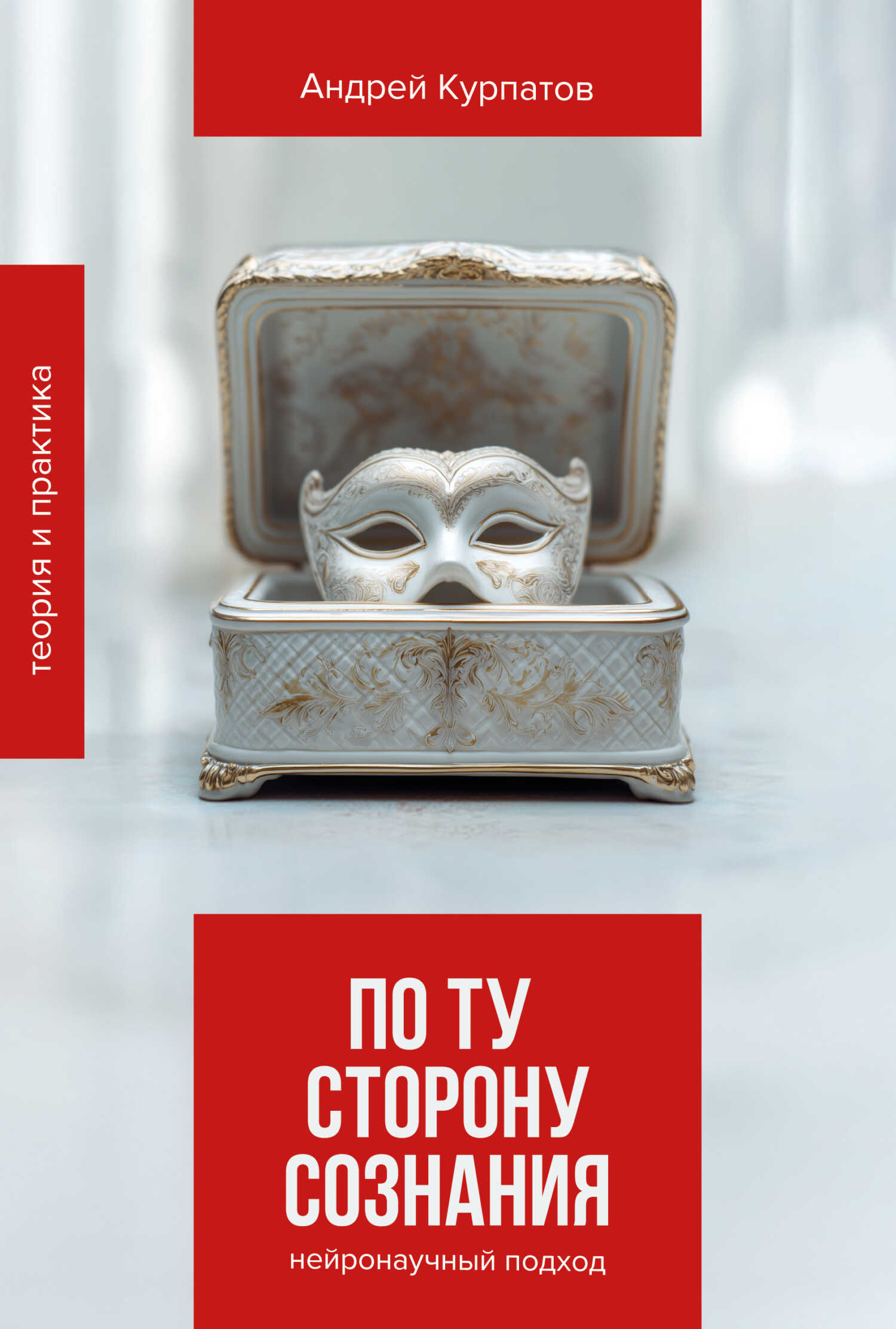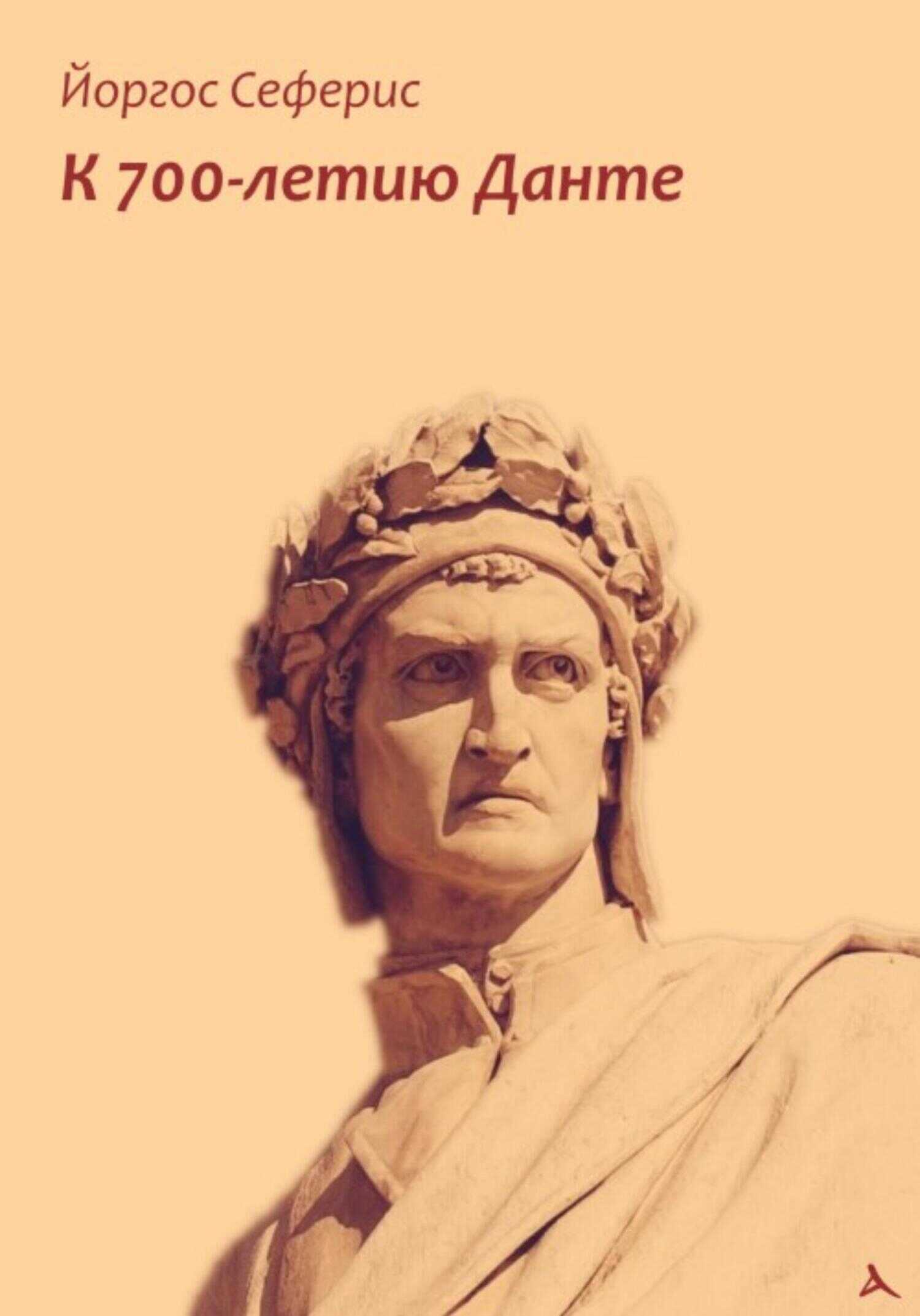Женщина говорила словно про себя, уставившись взглядом в сухие кирпичи пола. Она замолчала, и старик, давно порывавшийся что-то сказать, спросил:
— Вам там хватало?
— Хватало чего? — с готовностью откликнулся Сантолалья.
— Еды хватало? — пояснил тот, сведя в щепоть огромные пальцы и поднеся их ко рту.
— Ах, конечно! Нам там хватало всего. Кормили вдоволь. И не только тем, чем снабжало интендантство, — он оживился, хотя и через силу, — но также, — на память ему пришел виноградник, — и тем, что выращивают в тех краях.
Вопрос старика позволил ему перевести дух, но он тут же испугался, что женщину заденет неуместная легкомысленность его ответа. Впрочем, она сидела, уткнув глаза в свои толстые красные руки, и казалась отсутствующей. Теперь, когда потух ее горящий и яростный взгляд, перед ним была обычная, изнуренная работой несчастная женщина, женщина, каких много. Казалось, она целиком ушла в себя.
И тогда Педро Сантолалья решился приступить к самой щекотливой стороне своего визита: он хотел бы сделать для них что-нибудь, но боялся обидеть; хотел помочь им, но возможности его были ограниченными; хотел помочь — и не показаться себе в то же время торгашом, по дешевке откупающимся за человеческую жизнь. Но почему же так нужно было ему помочь им хоть чем-то, и что он мог сделать для них?
— Вот что, — глухо, с трудом выдавливая из себя слова, начал Сантолалья. — Я хотел бы попросить, чтоб вы относились ко мне как к товарищу… как к другу Анастасио…
Он остановился, это звучало насмешкой. «Какой цинизм!» — мелькнула мысль; хотя эти чужие ему люди и не чувствовали, как он сам, циничности его слов… не могли чувствовать, они ничего не знали… но как мог не поразить их этот заявившийся к ним «товарищ», одетый с иголочки, с изящными манерами и гладким слогом преподавателя института?… Как рассказать им придуманную историю, подробности своего «потом», пусть даже внешне и верные: что сейчас он относительно обеспечен и в состоянии помочь им, если они в чем нуждаются, в память о… Это было унизительно и очень далеко от тех благородных, полных патетики сцен, которыми он тешил свое воображение, представляя их по-разному, но всегда столь трогательно, что под конец слезы неизменно застилали глаза. Сантолалья видел себя плачущим, молящим о прощении, падающим на колени перед ними (перед «ними», совсем не похожими на «этих»), и они, конечно же, бросались его поднимать и ободрять, не давая ему целовать им руки… — красивые, возвышенные сцены… Но теперь, вместо этого, он торчал фатоватым господинчиком перед слабоумным стариком и подавленной, недоверчивой, недобро глядящей женщиной и собирался предложить им милостыню в уплату за то, что убил у них парня, чьи бумаги продолжал еще держать в руке как доказательство дружбы и обещание сердобольной мзды.
Невозможно было дольше молчать, нужно было что-то говорить; женщина уже подняла голову, вынудив его отвести взгляд в сторону, к вытянутым на солнце огромным, в рваных башмаках, ногам старика.
Она в свою очередь поглядела на него подозрительно, выжидающе: к чему клонит этот тип? Что означали его красивые слова: просить, чтобы к нему отнеслись как к другу?
— Я хочу сказать, — уточнил он, — что был бы очень рад иметь возможность помочь вам чем-нибудь.
Он застыл, ожидая ответа; но ответа не последовало. Можно было подумать, что они не поняли. Тогда, после тяжелой паузы, жалко улыбаясь, он заставил себя спросить напрямик:
— В чем вы больше всего нуждаетесь? Скажите: чем я могу вам помочь?
Синие зрачки на сморщенном лице старика загорелись радостно и алчно; руки заворочались, оглаживая набалдашник палки. Но прежде чем возбуждение его вылилось в слова, резко прозвучал голос дочери:
— Нет нужды, сеньор. Благодарствуем.
Слова эти захлестнули Сантолалью горестным потоком: он понял, что все пропало, надеяться больше не на что. Теперь его единственным желанием было уйти; но даже уходить он не спешил. Сантолалья медленно обвел взглядом небольшую, почти без мебели комнату, которую заполняли только старик, теперь равнодушно взиравший на него со своего кресла, и женщина, стоявшая перед ним со скрещенными руками, и, протянув ей профсоюзное удостоверение ее сына, сказал:
— Возьмите, оно принадлежит вам по праву.
Но она не шелохнулась, не протянула руки. Лицо ее замкнулось, глаза сверкнули; казалось, ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответить ему спокойно и даже насмешливо:
— И что, по-вашему, мне делать с этим? Беречь? А зачем, сеньор? Как же, хранить дома документ социалиста!.. Ну, нет! Благодарю покорно!
Сантолалья покраснел до ушей. Говорить больше было не о чем. Он сунул удостоверение в карман, что-то пробормотал на прощание и вышел на улицу.
Возвращение
] Историю о мальчике-сироте всегда рассказывали радостно, перед такой радостью решительно ничего не значило правдоподобие деталей. Над скукой обыденной жизни, над ее грязным утком, сотканным из нищеты, непосильной работы, невзгод, внезапно ослепительно вспыхивало это страшное дело, и голос сказителя то зажигался негодованием, то звучал глухо, угрожающе; потом все гасло, рассеивалось, и слушатели и рассказчик, помолчав немного, снова заводили разговор, словно бы ничего и не произошло, о всякой суете: помолвках, родинах, хлопотах, болезнях, похоронах, наследствах, тяжбах — в общем, о том густо сотканном утке каждодневных забот, в который многие из вновь приехавших, пробыв с нами некоторое время, вновь вплетали и нити своего существования, то ли потому, что не сумели устроиться в Аргентине, то ли потому, что не могли смириться с жизнью вдали от родных мест. Вот так и я, хотя мой случай был совсем другого рода, внезапно, в один прекрасный день, решил вернуться в Галисию. Не помню уж, сколько времени мы тогда терпеливо ждали, пока кончит лить нескончаемый дождь, а он все лил и лил; весь день мы работали при электричестве и, закончив работу, никуда не могли пойти развлечься, только поболтать со случайным знакомым в лавке на углу, и то досыта нашлепавшись по лужам и промокнув до нитки, или же сиди дома да гляди в окно на стену напротив, на почернелый карниз, под которым укрывались голуби, или на совсем уж отчаявшуюся пальму подальше, за оградой. В тот вечер к тому же и Мариана была в отвратительном настроении, даже не разговаривала со мной… А дело было так: со скуки я попросил мате, и она с явным раздражением стала его заваривать. Когда она подошла с мате, я обнял ее. «Уйди, ненормальный!» — завопила она и вывернула на меня кипящий мате… «Пора научиться, наконец, сдерживаться, — кричала она, — ты сам виноват, это совсем не шутки…» Вот тогда-то, к ее удивлению — она все поглядывала на меня искоса — и к моему собственному, я не предался злобе, что было бы вполне уместно, а почувствовал вдруг, как рождается во мне великая печаль, и вот тогда-то, в это самое мгновенье, я и решил вернуться в Испанию первым же пароходом.