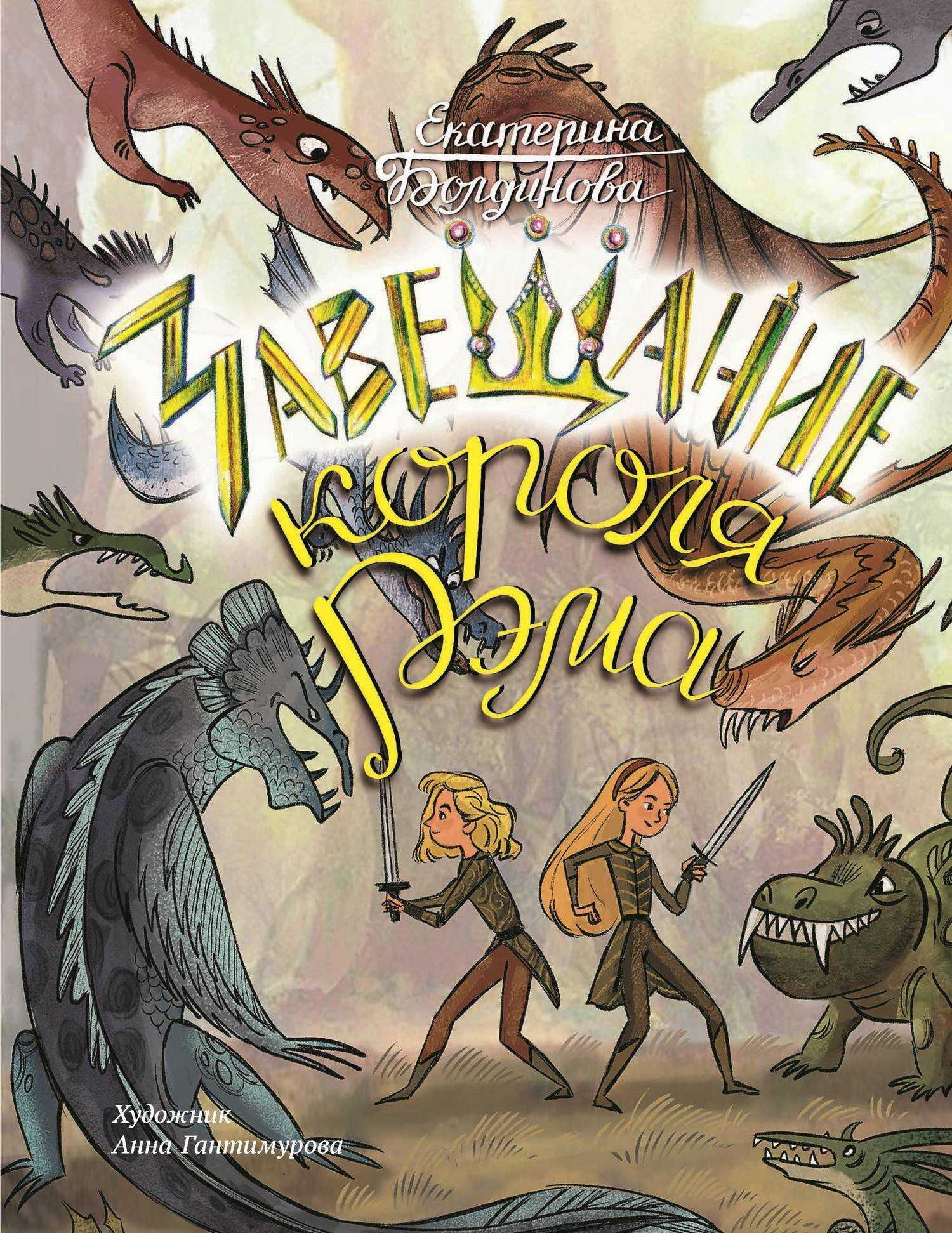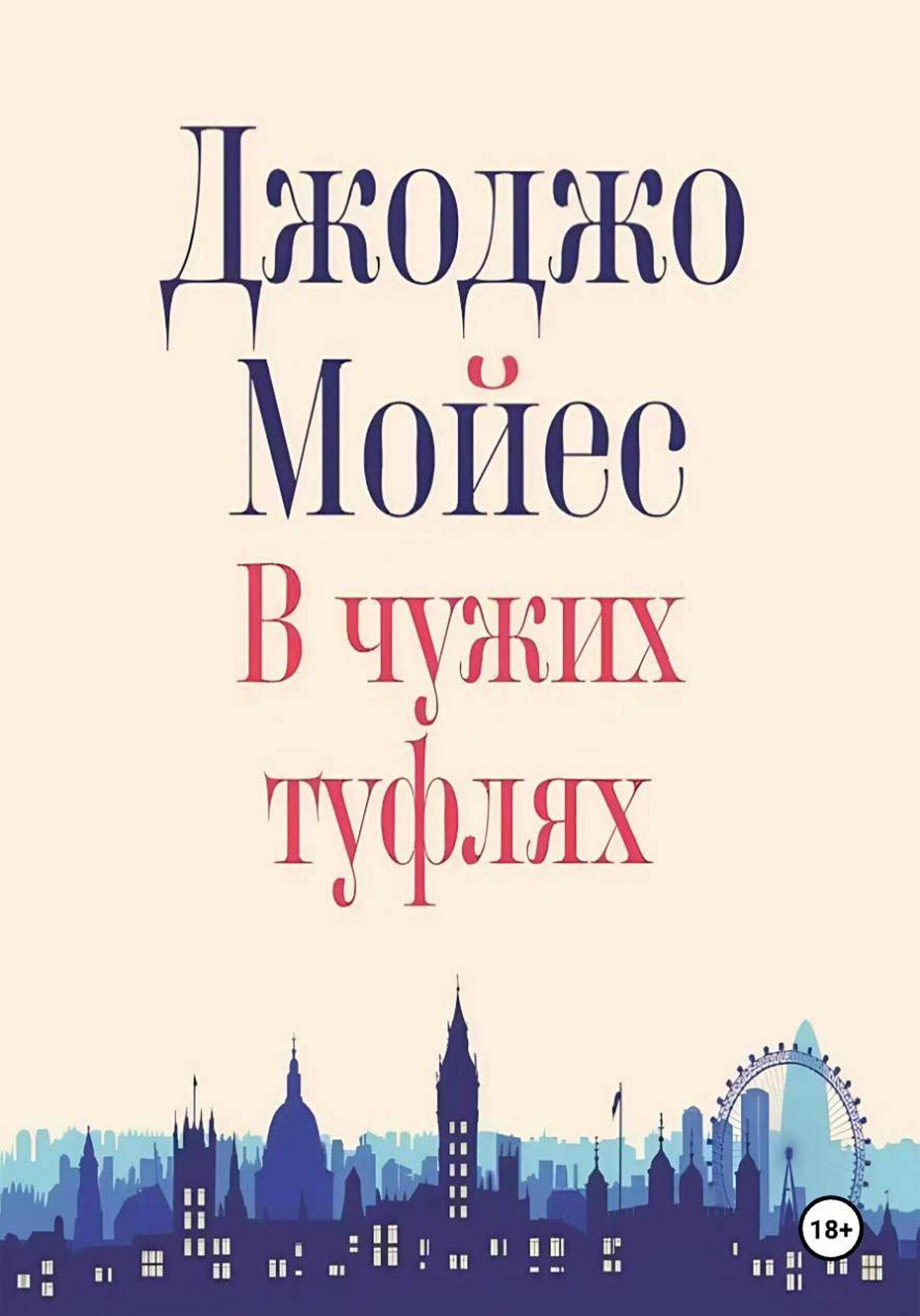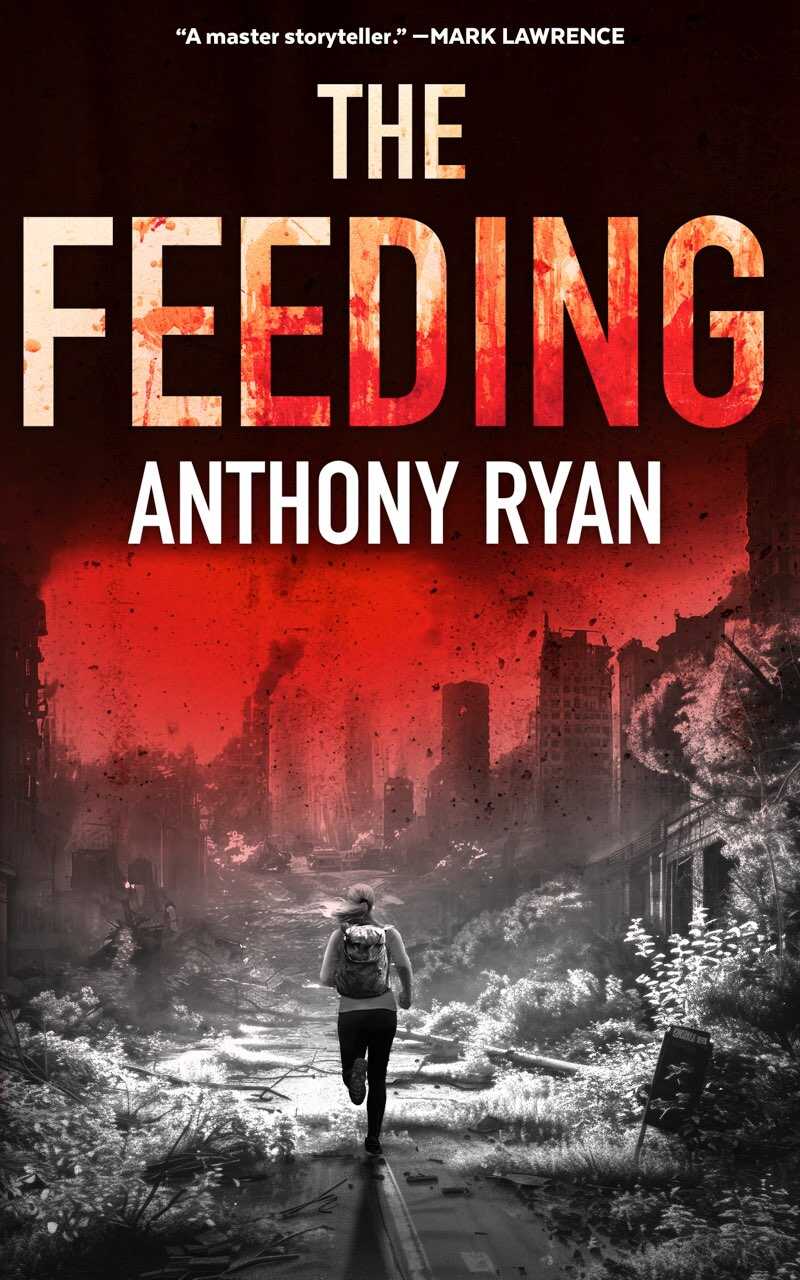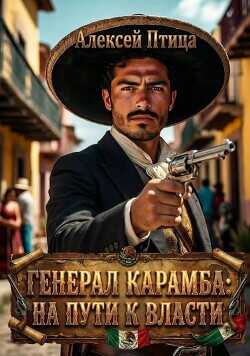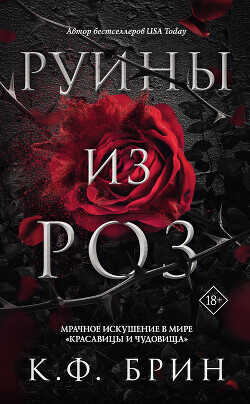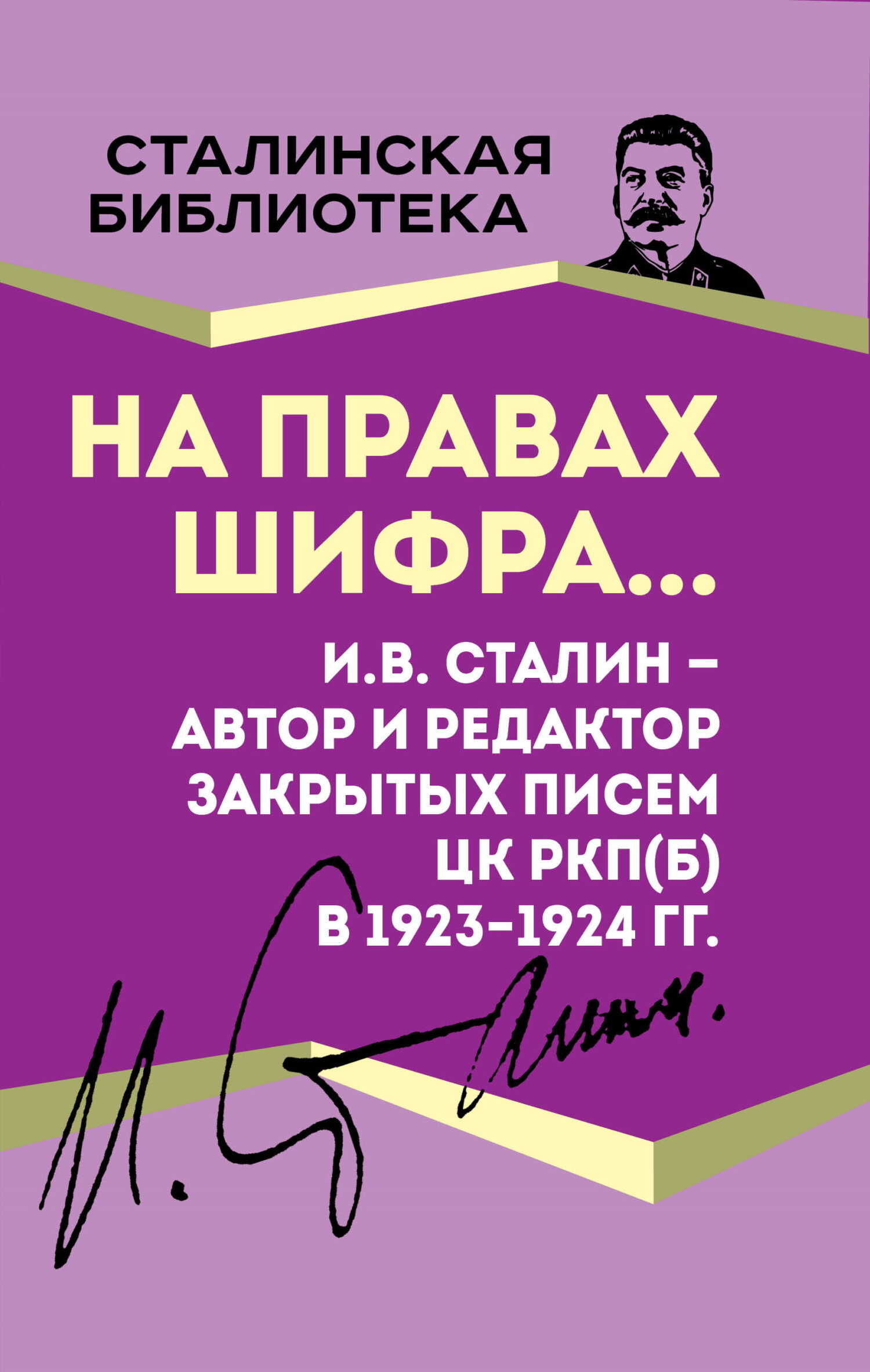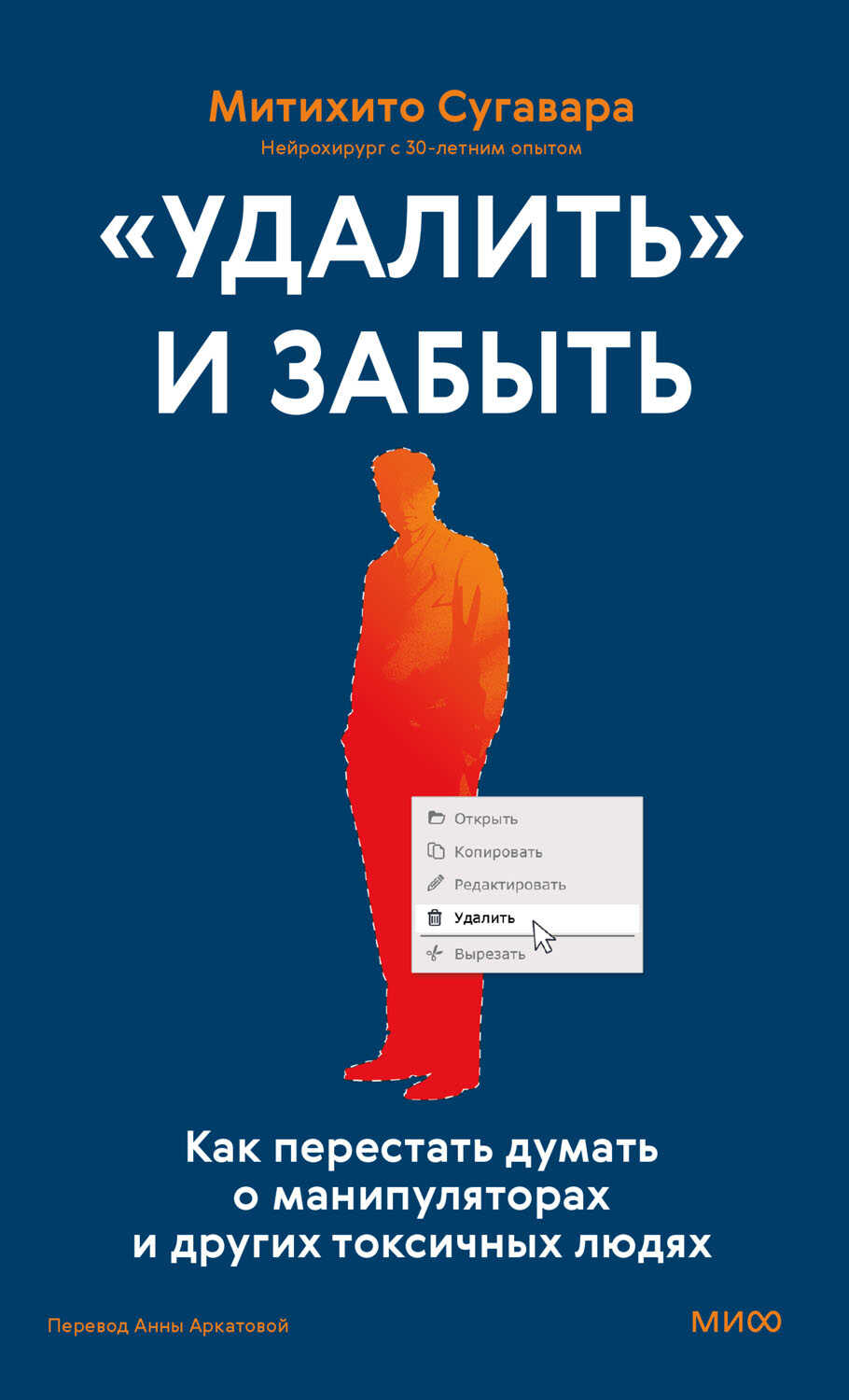вышел, инженером мог стать, да где там, в деревне? Так и мариновался в колхозной рембазе, утоляя тоску техническим спиртом да байками в курилке.
Петр всегда думал, что в Василие два человека жило. Один – на людях: рубаха-парень, балагур, душой компании. Гармошку на ремки рвал, Высоцкого орал так, что по всей улице слышно было. Мужики его уважали – без Васиных рук мастеровых полсела без тракторов бы сидело. Деньги у него водились, и он их с шиком, с размахом спускал – на выпивку, на гостинцы для приятелей. Да и хозяйство держал: дом крепкий, корова, свиньи. Не лодырь.
А другой человек в нём просыпался дома. Тот, что зверел от тишины и этой самой, ненужной на людях нежности. Петр видел, как Василий, вернувшись с гулянки, мог ласково трепать за ухом свою лайку, а через минуту – орать на Марию, чтобы жрать ставила быстрее. Он к жене относился, как к рабочей скотине: должна пахать, молчать и приносить пользу. А её тихое рукоделье (знал Петр, что Мария любила это дело), эти пяльцы да нитки, бесили его пуще всего. Это Василия бесило, как красная тряпка быка. То ли от глупости, то ли это было ему напоминание о какой-то другой, тонкой, непонятной ему жизни, до которой он дотянуться не мог, а потому – ненавидел. Слыхал Петр, как Васька орал жене «Лучше делом займись!» И это был крик человека, который сам свой талант залил спиртом и теперь злился на любого, у кого это «дело» было не с железом и мазутом, а с душой.
И страшнее всего было то, что Василий, побив её или унизив, наутро, бывало, мог принести из райцентра плитку шоколада «Алёнка» или банку шпрот – редкий дефицит. Не из любви, нет. Как хозяин кидает кость собаке, которую только что отлупил. Чтобы знала своё место и не забывала, кто тут кормилец.
Петр снова как наяву увидел Марию, сидящую в апрельской грязи у тяжелых ворот, с лицом, перемазанным глиной со слезами. И кошку, что жалобно терлась о ее ноги. И этот грузовик, уезжающий со двора.
Именно этот образ – беспомощности и подлого торжества – и всколыхнул в нем тогда что-то темное, яростное. Не жалость – жалости он отродясь не признавал. А скорее звериное, чувство справедливости. Так волк не позволит чужаку затоптать на своей земле даже самого хромого зайца. «Сволочь», – прошипел он тогда, и слово это вырвалось само, прежде чем он успел подумать.
А сам-то Петр хорош! Вырвалось: «У меня жить будешь». Сказал и сам ошалел. Но отступать было поздно. Слово мужика – закон. Сказал – держи.
Петр мотнул головой, отгоняя воспоминания. Дело сделано. Теперь думать надо, как жить дальше. Хозяйственные мысли накатывали сами собой, привычной, упорядоченной чередой. Наперво надо найти корма. Своей корове и теленку до выпаса хватит, а вот на ее Марту с приплодом надо выбить в колхозе. Председатель свой мужик, должен понять.
Н-да! Теперь у него баба в доме – надо показать ей, где крупы стоят, где белье чистое, где ложки-поварежки лежат, чтобы под ногами не путалась, лишний раз не спрашивала. У него с матерью свои порядки дома были, и при её жизни Петр не вникал в бабские заботы. После её смерти, конечно, быстро разобрался, голодом не сидел, грязью не оброс. Не до разносолов, но ему много и не надо было. А теперь Марие надо всё показать, чтоб хозяйничала. Знал Петр, что баба она сдельная, работа в руках спорится, и у него в доме она без дела сидеть не сможет. Всё польза…
Петр задумался и не заметил, как на кухню выглянула Мария. Она несмело вышла из своей комнаты и замерла у стола, не зная, куда приткнуться. Ее узлы с вещами со вчерашнего дня так и лежали посреди комнаты, как немой укор его опрометчивому решению.
– Иди, вещи разбери, – бросил он, не сдерживая раздражения. – А то под ногами мешать будут.
Она вздрогнула и, не поднимая глаз, потянулась к своему скарбу. Петр смотрел на ее согнутую спину, на беспомощные движения, и злость снова подкатила к горлу. Вот точно говорят: ни силы, ни огня. Одна сплошная унылая обреченность.
И тут он вспомнил прошедшую ночь. Как Мария кралась по избе, как скрипнула половица, его вопрос спросонок: «Чего не спишь?». И ее жалкий писк: «В туалет».
В туалет?! Ночью, в холод, баба? И ведь пошла бы на улицу, рискуя простудиться, как делала, наверное, всю жизнь с тем алкашом. Петр понимал, что он злится на неё, на Ваську, который не думал о здоровье жены. И на себя злится, что сразу не подумал ей то ведро вечером дать.
Мать, царство ей небесное, никогда так не поступала. У неё в комнате всегда стояло это эмалированное ведро. А как иначе? Бабам надо. Он и не думал, что кто-то гонит ночью жену во двор в уличный туалет.
Чтобы не показать своего раздражения, Петр принялся расставлять чугунки у печи. Любил он, чтобы во всем был порядок. Вот большой чугун для скотины, вот для супа, для каши. Спиной он чувствовал, что Мария толклась у порога. Чужая жена…
Всего-то сутки прошли, а он уже чувствовал, как по дому поплыл чужой запах. Не запах даже, а просто ощущение другого присутствия. Женского. Они вчера ужинали, и она чашки по-другому поставила в буфете. Полотенчико своё маленькое повесило рядом с его дерюжным у рукомойника. Да еще и кошка сидела под лавкой, зыркая на него своими желтыми глазищами. Защитница, чтоб её…
Да, в доме появилась женщина. Почти законная жена, по всем бумагам. Но он и пальцем ее трогать не собирался. Мысль о том, чтобы прикасаться к этому запуганному существу, вызывала у него внутренний протест. Не для того он её в дом привел.
В голове само собой всплыло имя – Зинка. А началось-то с ней лет десять назад, после очередной пьянки с мужиками. Он тогда, сразу после армии, злой на весь белый свет из-за истории с невестой, перебрал. Вышел из клуба, шатаясь, а на лавочке у магазина сидела Зина, курила. «Чего, Петруха, нос повесил? – хрипло рассмеялась она. – Баба не дождалась? Так я вот она, вся в сборе». И повела на него глазами, наглыми и обещающими. Ему тогда было все равно. Лишь бы забыться. Лишь бы доказать самому себе, что он мужик, а не пустое место.
Ее дом был грязным и пропахшим перегаром, но ее тело – горячим и откровенным. Никаких тебе душевных разговоров, никаких обязательств. Просто баба, шалава. Так и пошло. Время от времени, когда накатывало одиночество похлеще похмелья, он шел к ней. «Снять напряжение», как он сам для себя это называл.
Сейчас, поймав себя на мысли «а не сходить ли к Зинке?», он с отвращением скривился. Нет уж. Не до шалавы сейчас. С этой новой, тихой обузой надо разбираться.
Чтобы отогнать мрачные мысли, Петр вышел во двор. Утро было по-апрельски свежим, с неба сеялась мелкая водяная пыль. Хозяйство просыпалось: в стайке мычала его корова Ночка, подзывая теленка. Марта, корова Марии, осваивалась на новом месте. Куры, запертые на ночь в крепком сарае, уже вовсю копошились и квохтали. А в отдельном деннике конь Рыжка нетерпеливо бил копытом по твердому глинобитному полу, почуяв хозяина.
Петр налил всем по ведру воды, насыпал овса в корыто Рыжке, потрепал его по могучей шее. Конь фыркнул, выдыхая теплый пар, и принялся жадно жевать. «Вот оно, настоящее дело, – подумал Петр, глядя, как работают сильные челюсти животного. – Все просто. Покормил – он сыт. Не подвел – он тебе служит». С бабами все не так. Им чего надо – не поймешь. Правильно мужики говорят – от баб все беды».
Возясь со скотиной, на него внезапно накатило воспоминание – острое, как боль в старом шраме. Всего месяц назад… Комната, пропахшая лекарствами и сухими травами. Мать. Ее лицо, испещренное морщинами, на белой подушке казалось совсем маленьким, детским. Она была в сознании,