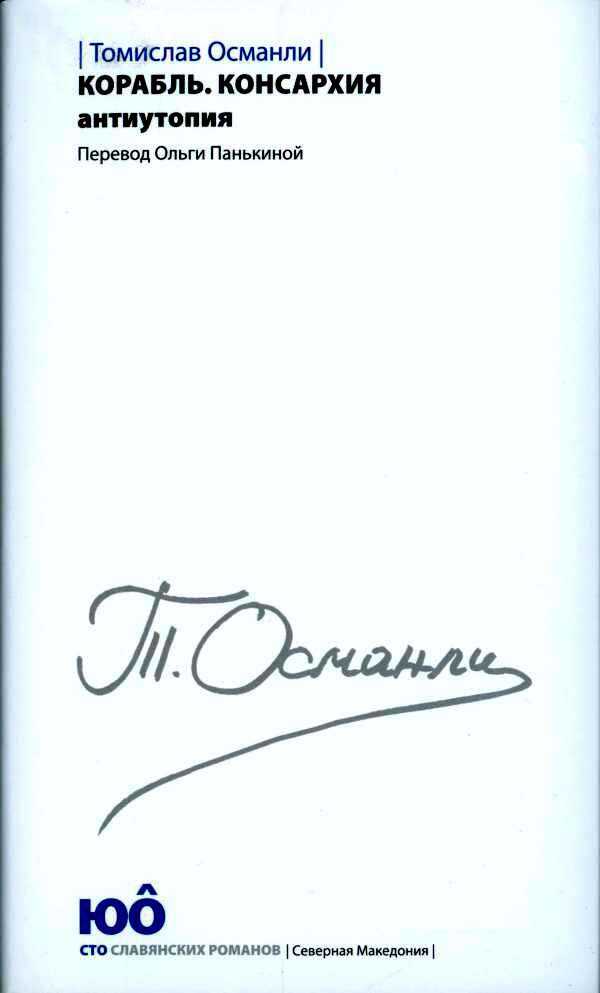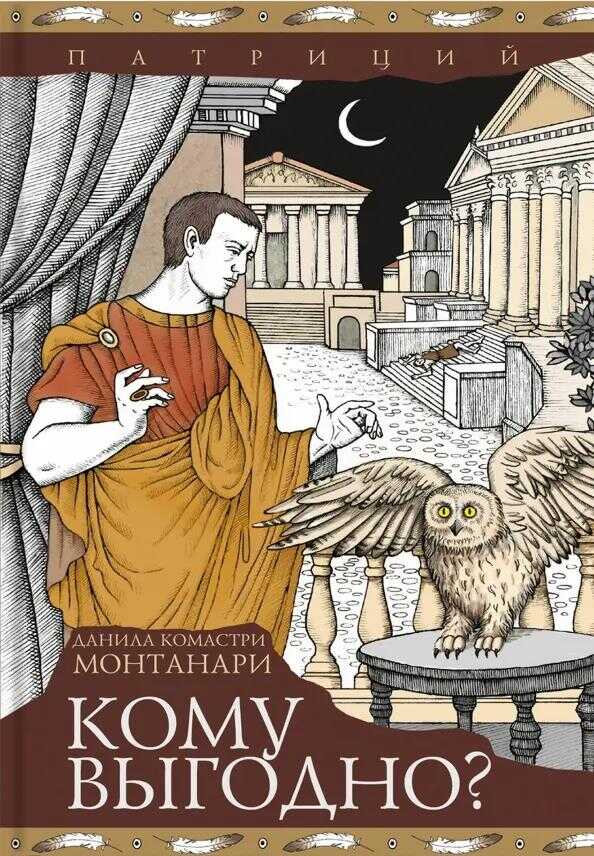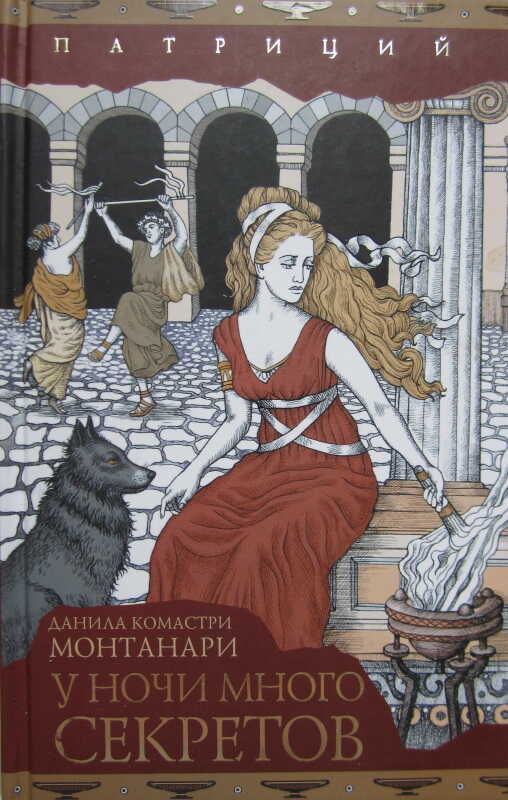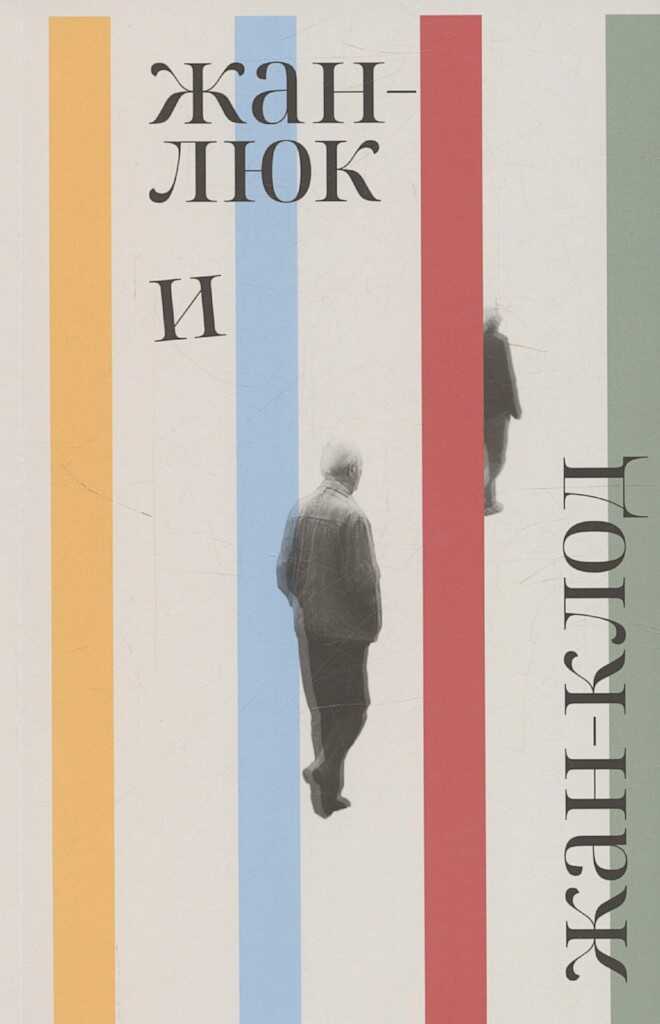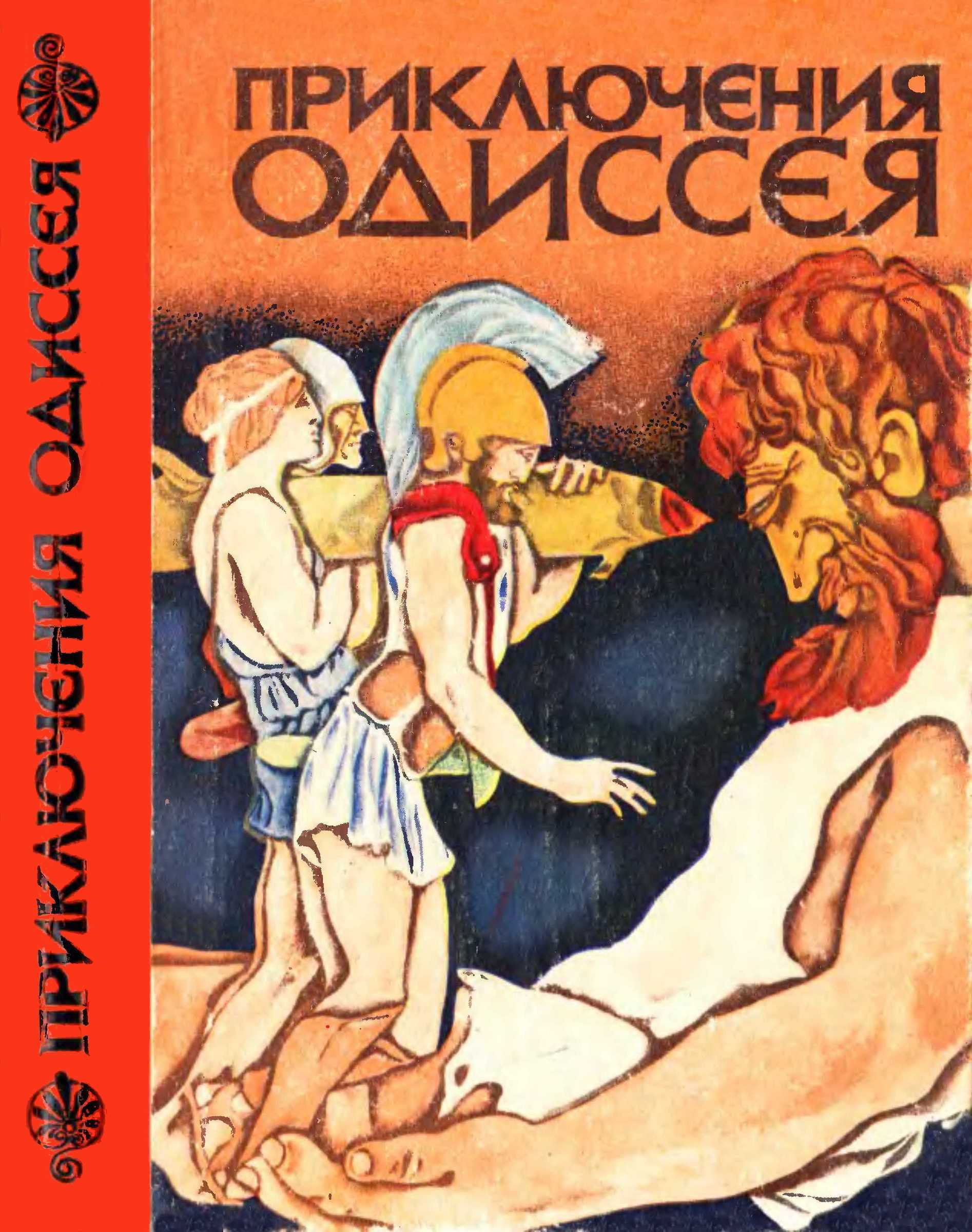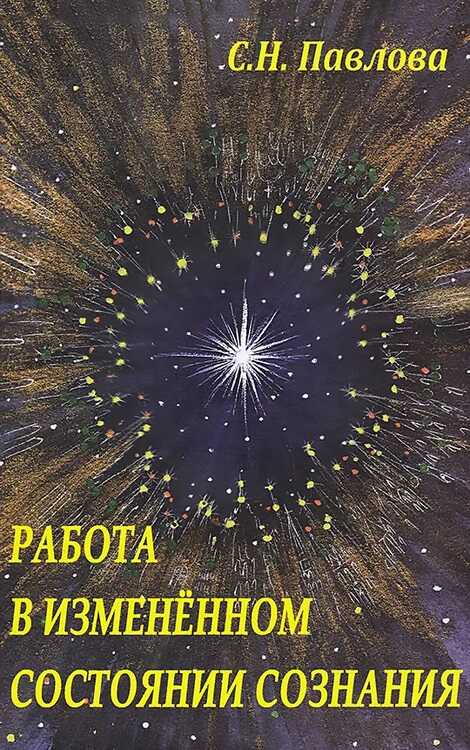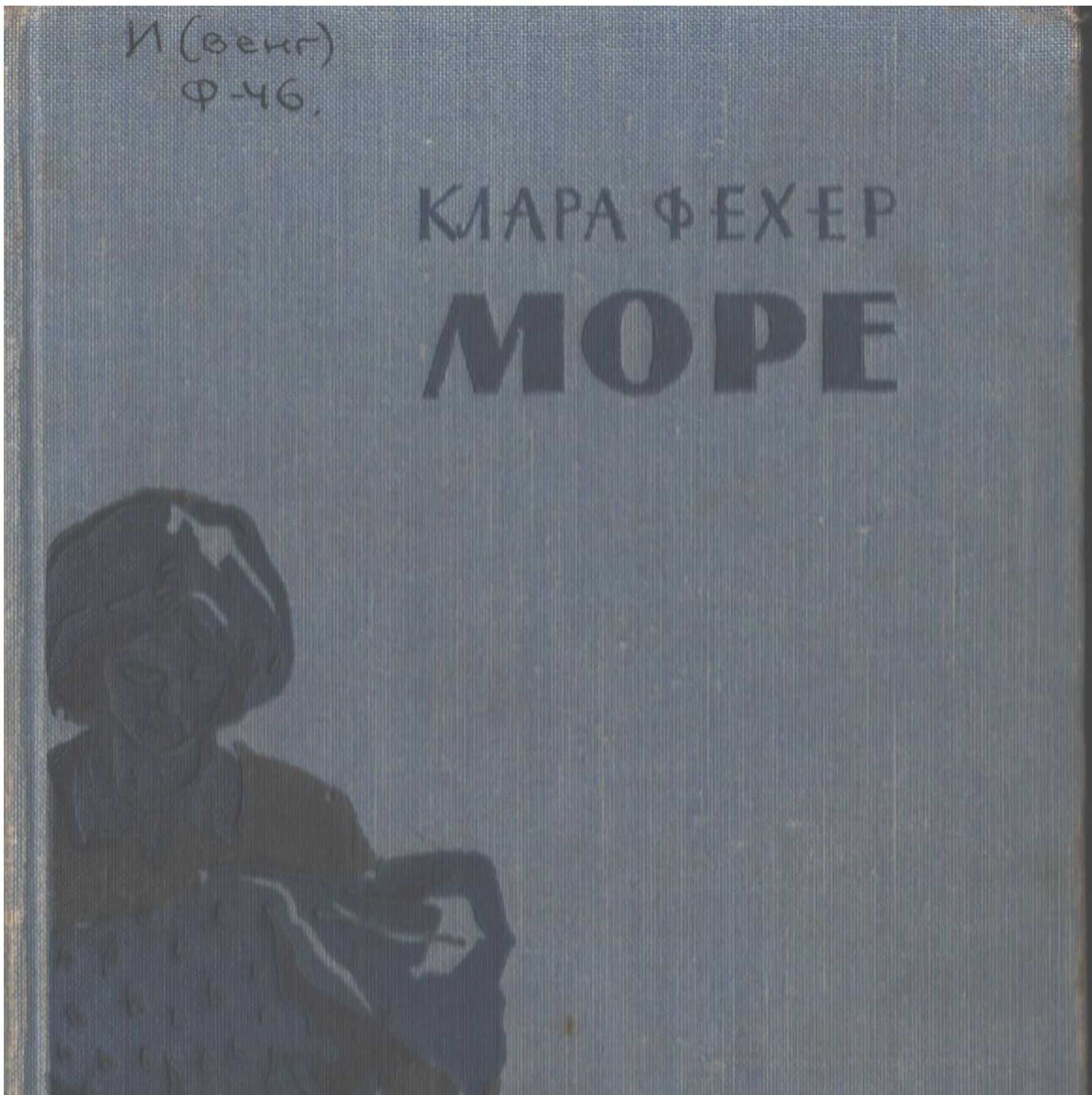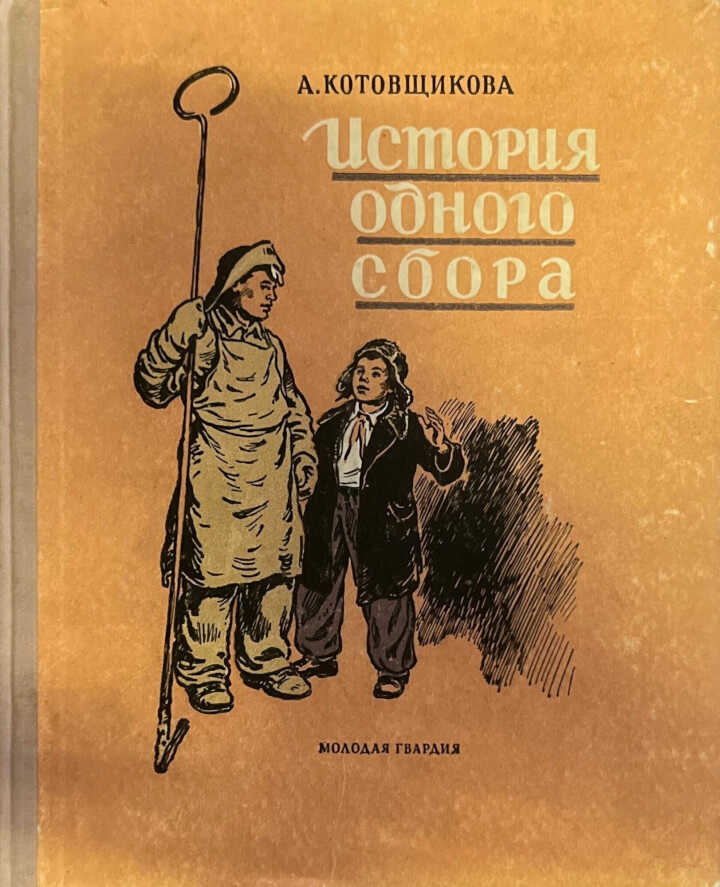бы по всей квартире. Попытка озеленить общую кухню посредством обширной коллекции кактусов не увенчалась успехом. Хозяйственный Дед принялся каждый день поливать их из синего чайника заодно со своей долговязой плюмерией. Кактусы пришлось эвакуировать. Не считая бедного уродца на Дедовом столе у мусоропровода, жить на кухне остались только столетник с толстянкой, делившие по-соседски общественный подоконник. Дальнейшие порывы рыжей Лизаветы украсить помещение строго пресекались.
Древний чайный гриб под бурой марлей, густонаселённой дрозофилами, был в своём праве, единолично царствуя на территории Лизаветиного стола. Однако уличить их в многолетней связи не составляло труда и не вдаваясь в подробности кухонной топографии. Достаточно было взглянуть на её многослойные туалеты, составленные из обтрёпанных лоскутов всех представимых оттенков земельной гаммы.
Со своим скрипучим, как у сойки, голосом, на этаже Лизавета имела проверенную репутацию склочницы. Словом, была совершенная ведьма, невнятного возраста и подозрительно неочевидных занятий. И всё же в ней был свой макабрический шарм.
Словно нарочно изматывая терпение соседей, Томильская Е.А., как значилось в приходящих на её имя квитанциях на оплату междугородних переговоров, без перерыва трепалась по телефону. В доме говорили, что она из бывших комитетских (как, впрочем, каждый третий ответственный квартиросъёмщик), но в каком именно качестве могла её особа, при таком наборе свойств и характеристик, быть востребована упомянутой организацией, было совершенно непонятно.
По мере удаления от Лизаветиной комнаты рыбная вонь стихала. Вдоль правой стены коридора толпились объятые сумраком вещи. Свет зажигался редко ввиду экономии электричества, и рассмотреть их толком Ане не удавалось. Лишняя мебель, комоды и стулья, лыжи, сломанные велосипеды, вёдра, большие бутылки, тазы, коробки и банки, между которыми взблёскивал вдруг пыльный трельяж. В комнате против него сперва была прописана молодая пара. У пары был мальчик чуть младше Ани, но на глаза он показывался нечасто: скорее всего, жил у бабушки, а может быть, в интернате. Муж Витя, загорелый и кудрявый, как цыган, но русый, с золотистыми пёрышками усов, которые тоже кудрявились, каждую субботу жарил на чугунной сковородке купаты из баранины, чад от которых выветривался из квартиры только ко вторнику. Из-под его голубой застиранной майки на лямках выглядывали синие наколки. Пил жизнерадостный Витя несильно, поскольку работал шофёром. К его очень толстой жене Марине, шатенке с красивым лицом и большими, как у коровы, глазами, раз-другой в неделю наведывалась сестра, в точности такая же, только ещё более пухлая от слёз. Муж у неё часто пропивал зарплату, и случалось, что в доме нечего было есть. Мальчик, как вскоре выяснилось, был её сыном, которого Марина брала к себе из жалости. Сестру она любила и, тоже всхлипывая, доставала из синей кастрюли варёную курицу, чтобы отрезать ей половину. Всё это продолжалось, пока однажды ночью в коридоре не произошёл переполох: кажется, кого-то принесли, натыкаясь с грохотом на притаившуюся в засаде мебель; он громко стонал. Сначала по телефону вызвали скорую, потом женским голосом прокричали истошно “умер!”. На следующее утро Аня пошла в школу, так и не узнав, кто это был, а после, заодно с бараньим духом, выветрилось из памяти и само происшествие.
Комната освободилась, и начальник ЖЭКа предложил Витрукам присвоить её в дополнение к собственной, улучшив таким образом жилищные условия. Родители отказались, чтобы не потерять очередь на квартиру, и ничейную комнату на время присвоила Аня. Пустая, она оказалась большой, неожиданно светлой и гулко отзывалась на каждый звук. В углу валялся будильник с разбитым стеклом, который можно было разобрать на шестерёнки, и целая бобина медной проволоки, видимо, забытая в суете отъезда. Через месяц в комнату подселили женщину с новым мальчиком. Женщину звали Нина. Нина носила длинный халат с большими цветами по красному полю и делала стрижку с химией, напоминавшей овечью шкуру. К ней приходил бывший муж, вежливый и тихий человек с потупленными глазами. Он всё ещё любил Нину и даже писал ей стихи, но Аня случайно подслушала, как она призналась на кухне маме, что отец мальчика болен шизофренией и чуть не зарубил их обоих топором, а врач сказал, что это наследственное, и с тех пор она очень боится за сына.
10
Коридор, завершавшийся комнатой Деда, впадал в небольшой тамбур. Справа был вход к Витрукам, а перед ним предбанник, отгороженный гобеленовыми гардинами. Его ширины хватило как раз, чтобы разместить холодильник “Бирюса”. Слева от предбанника стоял на этажерке серый телефон с трубкой, перемотанной синей изолентой. Прореха в обоях над ним прикрыта была репродукцией из “Огонька” с двумя таитянками. Аниному отцу, курившему за гардинами, приходилось выслушивать все Лизаветины разговоры. Ничего на свете Лизавета не боялась так неистово, как прозевать адресованный ей звонок, ответив на который, ленивые и мстительные соседи наврут, что её нет дома. Когда ей вдруг померещилось, что она начинает глохнуть, навязчивый страх превратился в кошмар. Сперва она придумала дежурить в коридоре, сидя в потёмках на стуле и пугая возвращавшуюся из школы Аню, но вскоре нашла идею получше – выскандалить инвалидность и на её основании поставить к себе в комнату параллельный аппарат. Смекнув, куда ветер дует, соседи решительно воспротивились, и притязания ей пришлось снизить до сигнального фонаря, который собес был готов установить ей бесплатно вне очереди и безо всяких к тому оснований, лишь бы угомонилась. С тех пор, опережая скорость звука, она в любое время успевала первой долететь до телефона и то и дело являлась из мрака в своих драпировках и огненно-рыжих трясущихся кудельках. Впрочем, случались и перерывы.
Не находя заслуженного признания по месту прописки, за его пределами Лизавета всё же имела свою долю успеха. Живя в коммуналке, где многое из того, что хотелось бы скрыть, просачивается наружу, со временем находишь специфическое удобство в том, чтобы считать, будто делишь жилплощадь с исчадием ада. Это обстоятельство довольно широко тебя оправдывает, даже возвышает в собственных глазах. Так что не приходит в голову задуматься: откуда у одинокого и нелепого существа, практично наделённого инфернальной сущностью, столько заинтересованных абонентов? В числе которых, страшно подумать, есть даже поклонники? А между тем недостатка в поклонниках у Елизаветы Александровны действительно не наблюдалось, поскольку, помимо владения искусством светской беседы, она обладала ещё и хорошо поставленным сопрано. Дома она, правда, никогда не пела, разве что одна на кухне изредка мяукала себе под нос какой-нибудь романс. Чуя постороннее присутствие, Лизавета тут же умолкала, приберегая талант для публики поблагодарнее – из круга межсезонных постояльцев курортных учреждений, куда то и дело срывалась по льготным путёвкам. Согласно доходившим до соседей слухам, в санаторных конкурсах художественной