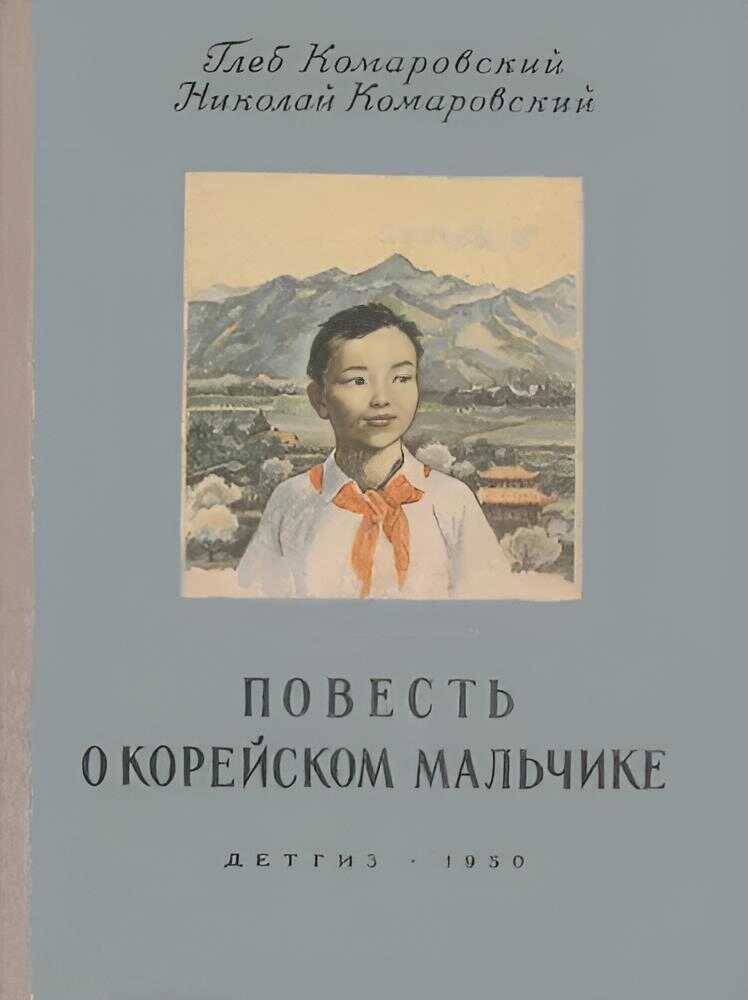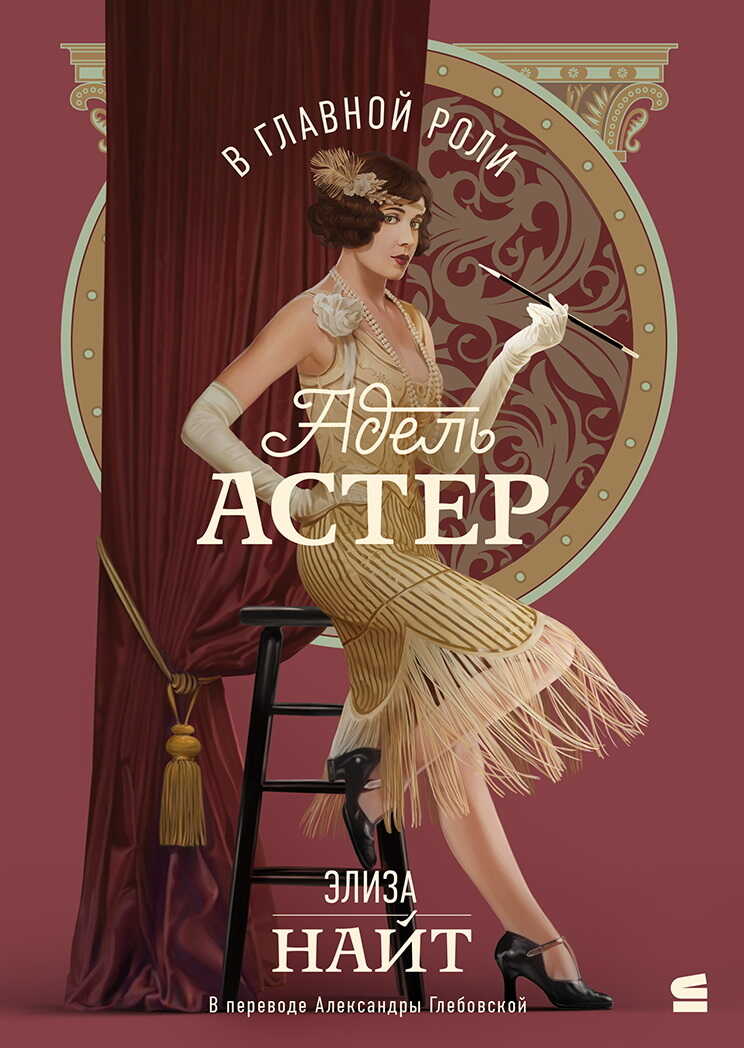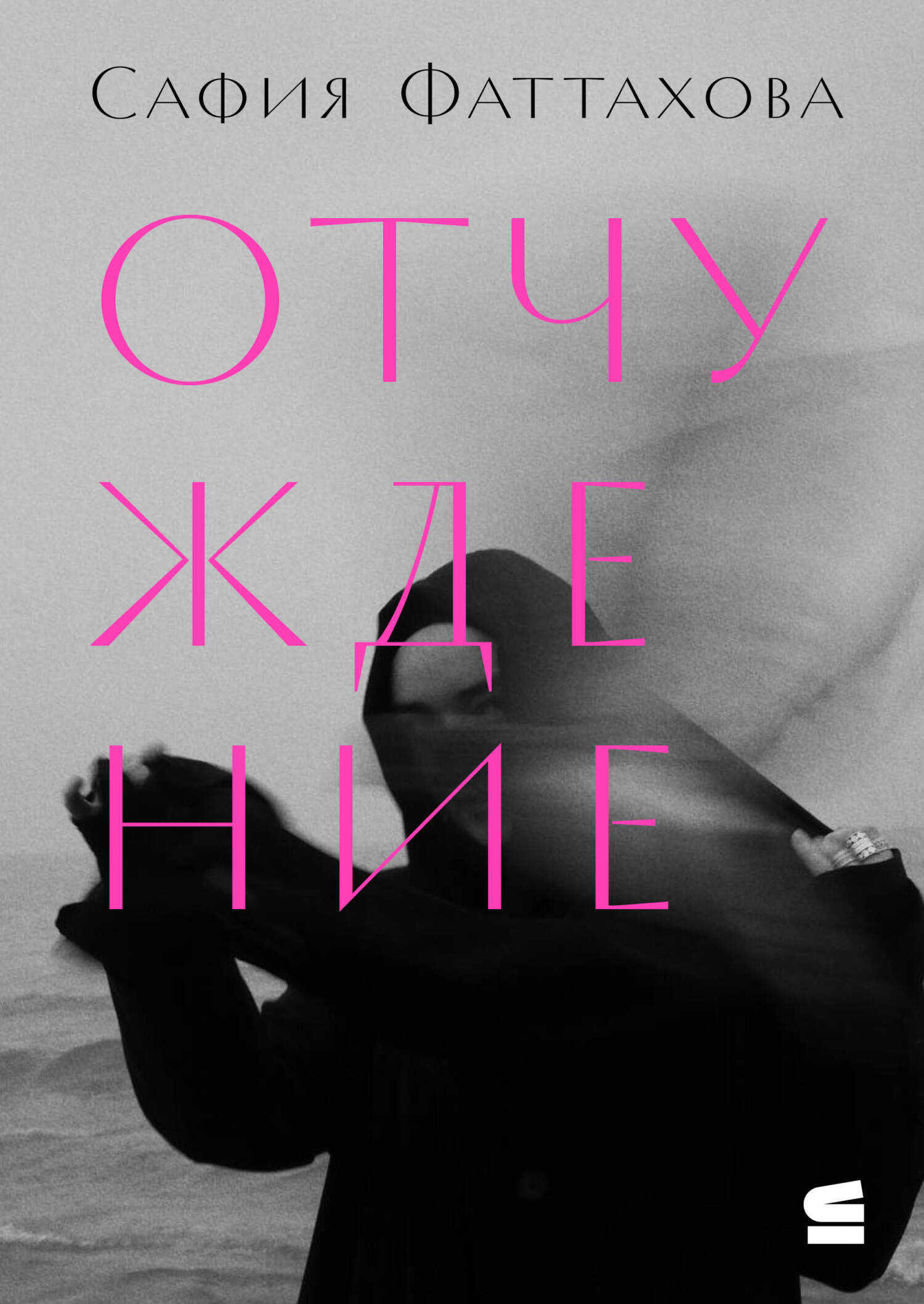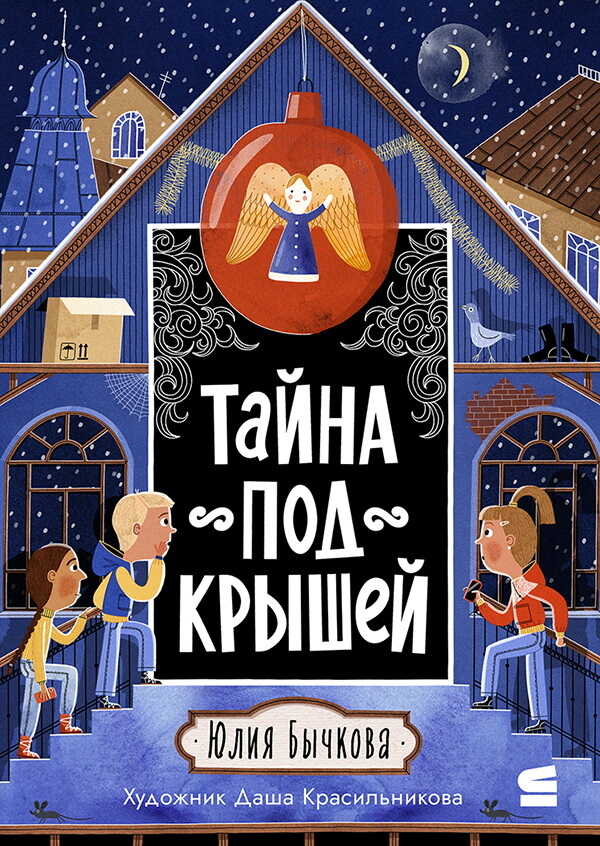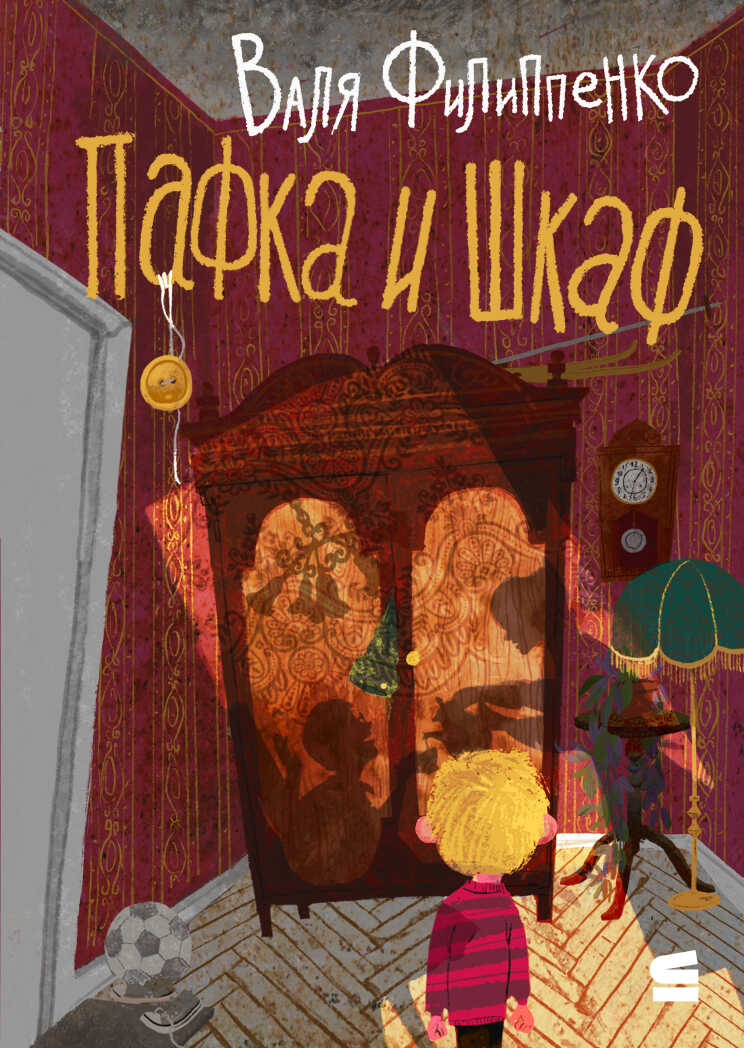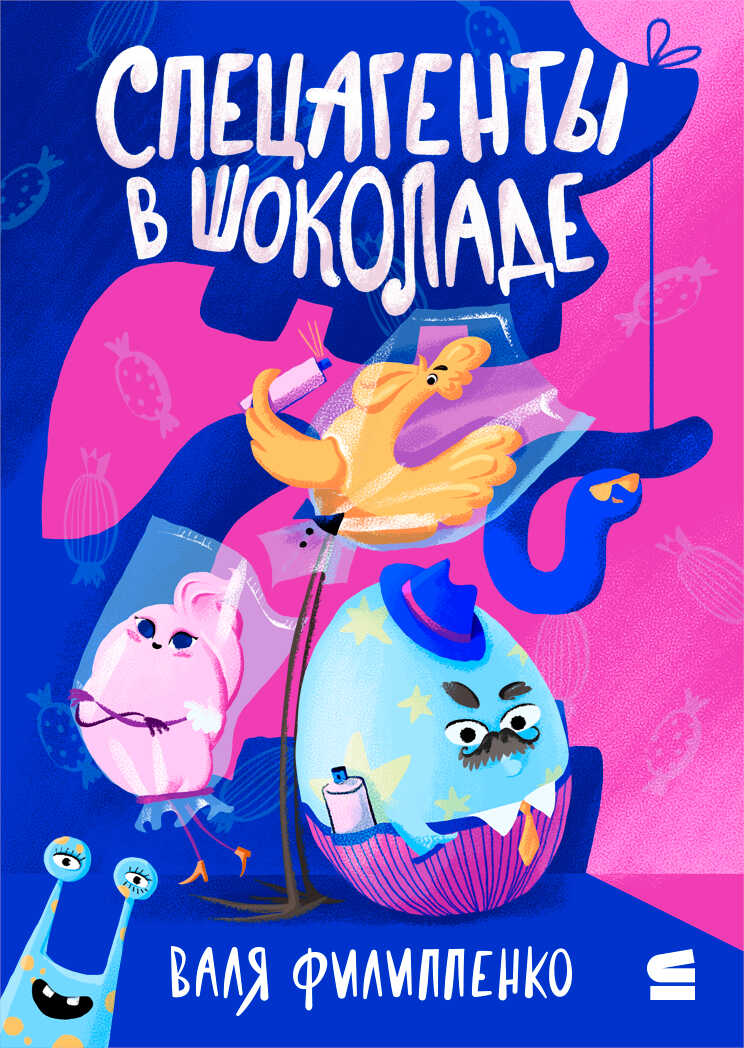Ознакомительная версия. Доступно 5 страниц из 33
в падении ничком, руки вытянуты над головой, в ладонях все еще зажаты осколки фамильной лампы, которую он разбил в начале нашего собрания в этом большом красном зале, и вознесенные осколки пылают, отражая сияние созвездий ламп для чтения на столах: наш уютный домашний Млечный Путь из сорокаваттных лампочек, освещающих потертую кожаную мебель, иссохшие головы животных, и неисчислимые пыльные нечитаные книги, и наши лица – все наши лица, залитые янтарным светом, не сводящие глаз с того, как долговязый Максвелл шлепнулся животом на поеденный молью ковер, который сбился в складки, поймавшие и стреножившие ботаника.
– Бог среди нас! – крикнул в падении он.
И – бум.
– Ай! – машинально воскликнул кто-то рядом, когда Макс приземлился. Удар сопровождался звоном фарфора, разлетевшегося по полу. Фарфор рассыпался на все более мелкие осколки. Скользил под креслами.
– Господи, – произнес голос.
– Врача! – воскликнул другой.
А из-за толпы, перегородившей дверь, донесся высокий голос дорогого доброго Милтона, нашего медиума, который спрашивал всех подряд: «Что случилось?»
Пробка в дверях рассосалась. В комнату вошли полдесятка человек. За ними последовали другие зеваки. Люди рассаживались или стояли, глазея на Макса.
– Нервный срыв, – сказал Милтону Зигфрид. В его мозолистых руках тоже были останки разбитой лампы. Теперь скульптор косился на стекло с тревогой, словно оно опасно, может вдруг причинить ему вред. Он пояснил Милтону: – Макс споткнулся о провод и разбил лампу – и это еще ладно, – а мы со Стивеном помогали убирать. И тут ни с того ни с сего Макс стал гоняться за людьми.
– Он пытался меня убить! – взвыл Хайрам у камина. С трудом поднял руку. Продемонстрировал распухшее запястье. На его лице была боль.
– И нас! – вторил ему хор Уинстона и Чарльза из убежища за кожаным диваном.
К Максу уже подоспел Барри и с профессиональным видом присел рядом. Макс лежал ничком и не шевелился. Барри начал осмотр; надавил над ключицей, чтобы послушать сердцебиение. Все умолкли. Шарканье. Покашливание. Под чьим-то ерзающим телом вздохнуло сиденье кресла. Тишина, и в тишине – то смутно знакомое низкое жужжание, вроде бы только что звучавшее со стороны камина. И что бы это могло быть? Ах да, ну конечно. Филдинг со своей восьмимиллиметровой видеокамерой. Он делал наезд, менял фокус, искал свет, фиксировал все на пленку.
– Помогите мне, кто-нибудь, – сказал Барри, не глядя ни на кого конкретно.
Никто не сдвинулся с места. Все переглядывались под тихое и металлическое урчание камеры. Филдинг обвел камерой пол и неподвижную спину Макса; синеватый объектив наезжал на туфли за туфлями под заправленными или незаправленными брюками стоящих плечом к плечу мужчин. Око камеры поднималось мимо штанин, сборок или планок, прячущих ширинки или пуговицы, чтобы взглянуть на карманы, где руки рассеянно игрались с фантиками жвачки, свернутыми банкнотами, ключами, катышками, мелочью и чеками от покупок.
А также с гениталиями. Упрятанными в нижнее белье мошонками всех девяноста девяти (не считая Джорджа) нас.
– Убери уже свою хреновину, – сказал Филдингу кто-то из братьев, когда тот поднял камеру, чтобы в постепенном боковом движении охватить по порядку все наши лица.
Настало очередное наше ежедневное вечное мгновение немой коллективной нерешительности – теперь из-за гаданий, кто и чем поможет Барри помочь Максу, если поможет.
Тут в первом ряду словно очнулась небольшая компания. Вперед выступили трое и встали вокруг Максвелла. Слушая команды врача: «Кажется, ничего не сломано. Хочу попробовать его перевернуть. Милтон, бери Макса за колени. Зигфрид, на тебе – руки. Кристофер, ты держи ступни. Я – голову. Так, поднимаем и переворачиваем, аккуратно, на счет три. Направо. Осторожно. Раз, два, три», они крякнули и переместили распростертого брата с живота на спину.
В иных местах библиотеки совершались другие события. В таком большом помещении несложно происходить множеству всего сразу, без существенных помех для неформального чтения или досужего просмотра тому, кто листает барочные партитуры или какой-нибудь старый литературный, научный или геральдический трактат, выуженный из середины расшатанной некаталогизированной стопки. Я упоминаю здесь наш обширный геральдический архив, поскольку в последнее время для меня он представляет особый интерес. Моим главным призванием стала генеалогия, под которой я имею в виду не просто составление схемы семейного древа, а скрупулезное исследование родословной и наследственных болезней крови, в особенности безумных монархов. Я не сошел с ума. В моих венах действительно течет кровь безумного монарха. Как и у всех нас. Мне хотелось знать, предвещает ли это что-нибудь. И если да, то что именно. И потому вечерами я в любительском режиме погружаюсь во внутрисемейные социобиологические вопросы, раскладываю истлевающие документы на дубовом столе под окном-розеткой, выходящим – если что-то разглядишь через заляпанное стекло цвета индиго – на мощеные тропинки и каменные мостики, тут и там пересекающие покрытые травой лужайки; на систему вонючих и медленно высыхающих прудов в окружении древних деревьев, что когда-то были пышными, но никогда – высокими, а с годами склонились еще ниже и стояли практически голые, одной ногой в могиле… Наш бывший сад зеленых фигур. Сколь многое здесь постиг упадок. В красной библиотеке всюду, куда ни глянь, видно, как долго уже никто не удосуживался взять в руки шпатель. Буреющая краска и желтая штукатурка линяют с крестовых сводов, словно шкура. Из двадцати люстр, висящих на позолоченных тросах, немногие еще способны светить. Эффект, если взглянуть поздним зимним днем, когда смеркается, пугающий: пиранезийский этюд с тусклыми люстрами под смутно освещенными потрескавшимися куполами, которые – в зависимости от освещенности и длины теней, разбросанных во всех направлениях пересекающейся матрицей сводов, – кажутся то выше, то ниже, то более ветхо красивыми, то более отвратительно мрачными, чем, наверное, есть на самом деле; вся угрюмая архитектура плачет по ремонту, грозя попросту рассыпаться и обвалиться, обрушив нам на головы гаснущие светильники. Ну или так может показаться одержимому смертью нервозному читателю. И кстати о головах! Со своего места на двойном кресле, прижатый к безутешному Вирджилу, я мог взглянуть более-менее в глаза не меньше чем дюжине безжизненных млекопитающих, висящих напротив на досках (одинокое исключение – олень, которому выкололи глаза, оставив зиять пустотой раны), каждое – в каком-нибудь унизительном виде: торчащие из свалявшейся серой шерсти рваные уши, сколотые рога, зубы, отсутствующие целыми рядами или же отломавшиеся от почерневших корней, общее облысение под слоями пыли. Несчастные, напрасно загубленные животные. Я болею за них всей душой. Их морды словно застыли в последнем крике ужаса. Что за жалкая загробная жизнь: висеть в зале, полном падающих или матерящих друг друга мужиков, которых заводят французские или английские порнографические труды восемнадцатого столетия – главного предмета интереса в наших запасниках, особенно (предсказуемо? объяснимо?) у женатой молодежи, которая делает вид, словно им это ничуть не интересно, и все же неизменно при любом нашем общем сборе первая торопится к шкафу из красного дерева, где хранится порнография? Кого они хотят обмануть? Вон они в своем углу, озабоченные гады: Сет, Видал, Густав и Клей – вся компашка в сборе, хихикают, тихо обмениваются страницами и похваляются: «Я бы вдул» – в тот самый миг, когда в каких-то пяти метрах от них лежит их брат, исследователь тропической флоры, в бреду, в полукаталепсии, истекая слюной и прочими жидкостями. Не поймите меня неправильно. Не хочу показаться ханжой. Я ценю хорошие эротические иллюстрации, а это рисунки мастерские, великолепные в том же смысле, в каком великолепны гравюры Хогарта из цикла «Переулок джина», читай – пышно гротескные и, следовательно, фантастически любопытные для постороннего зрителя. Да, хорошую эротику я люблю не меньше других. Но вот эти будуарные сцены с колченогими либертинами[2], что суют тощие пенисы в тучных любовниц, склонившихся над балюстрадами или золочеными спинками кресел (юбки раздвинуты, демонстрируя скупо набросанные гениталии, проблеск бедра), – эти картины будуаров, судомоен и оперных лож скорее тревожны (из-за того, что они нам сообщают о частной жизни, общественном здравоохранении и истории европейской сексуальной моды и вкуса), нежели эротичны. Широко известно, что во времена Просвещения гигиена была не в чести. В этих книжных гравюрах, где аристократы со слезящимися глазками по-собачьи занимаются
Ознакомительная версия. Доступно 5 страниц из 33
![Сто братьев [litres] - Дональд Антрим](/uploads/posts/books/328889/328889.jpg)