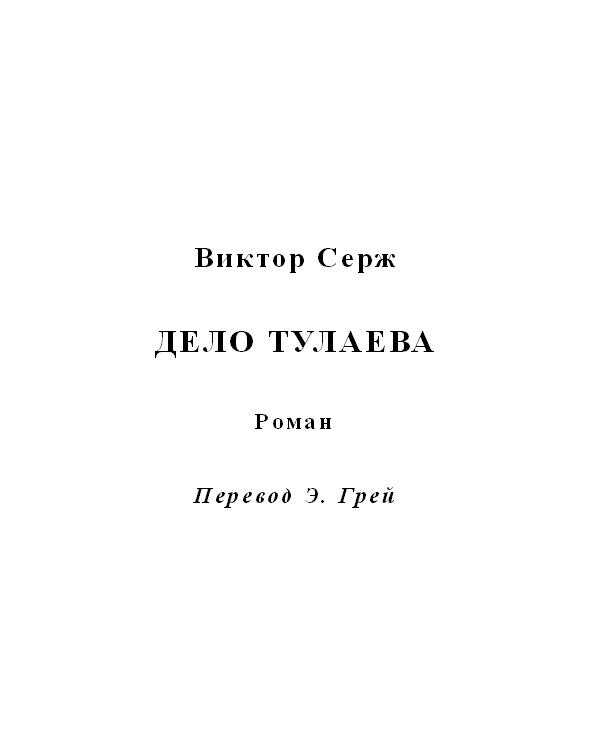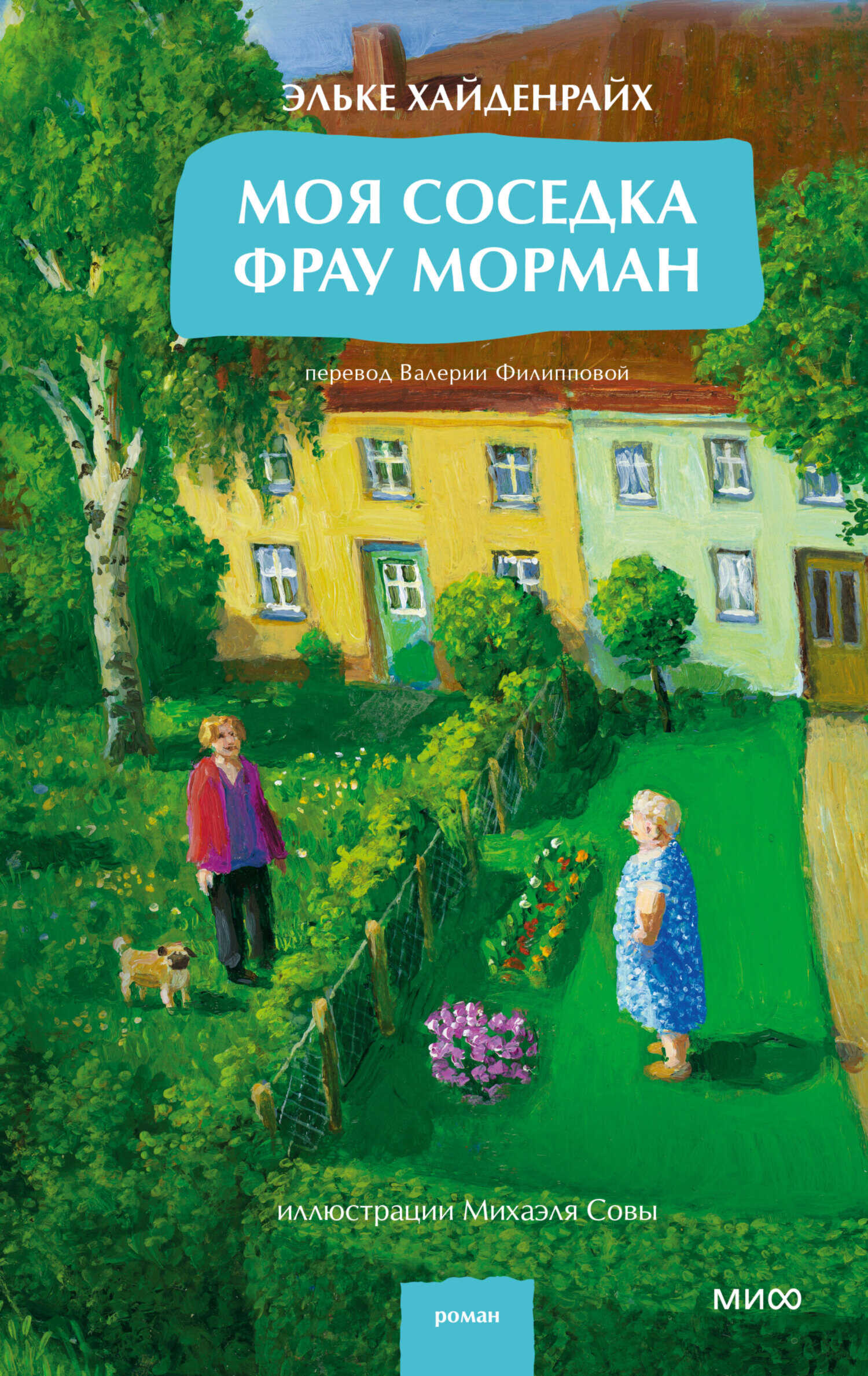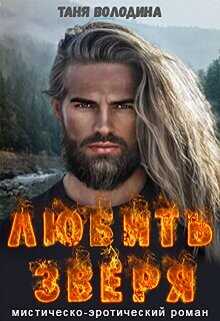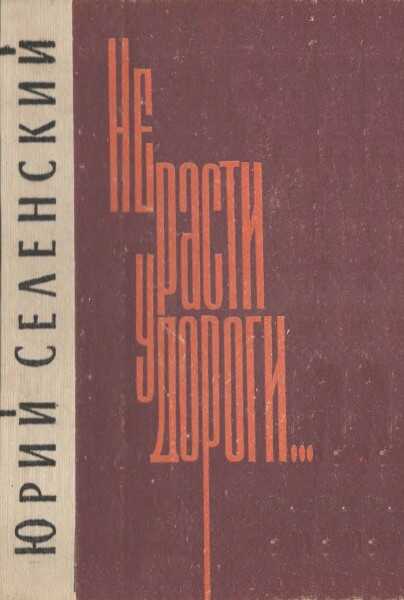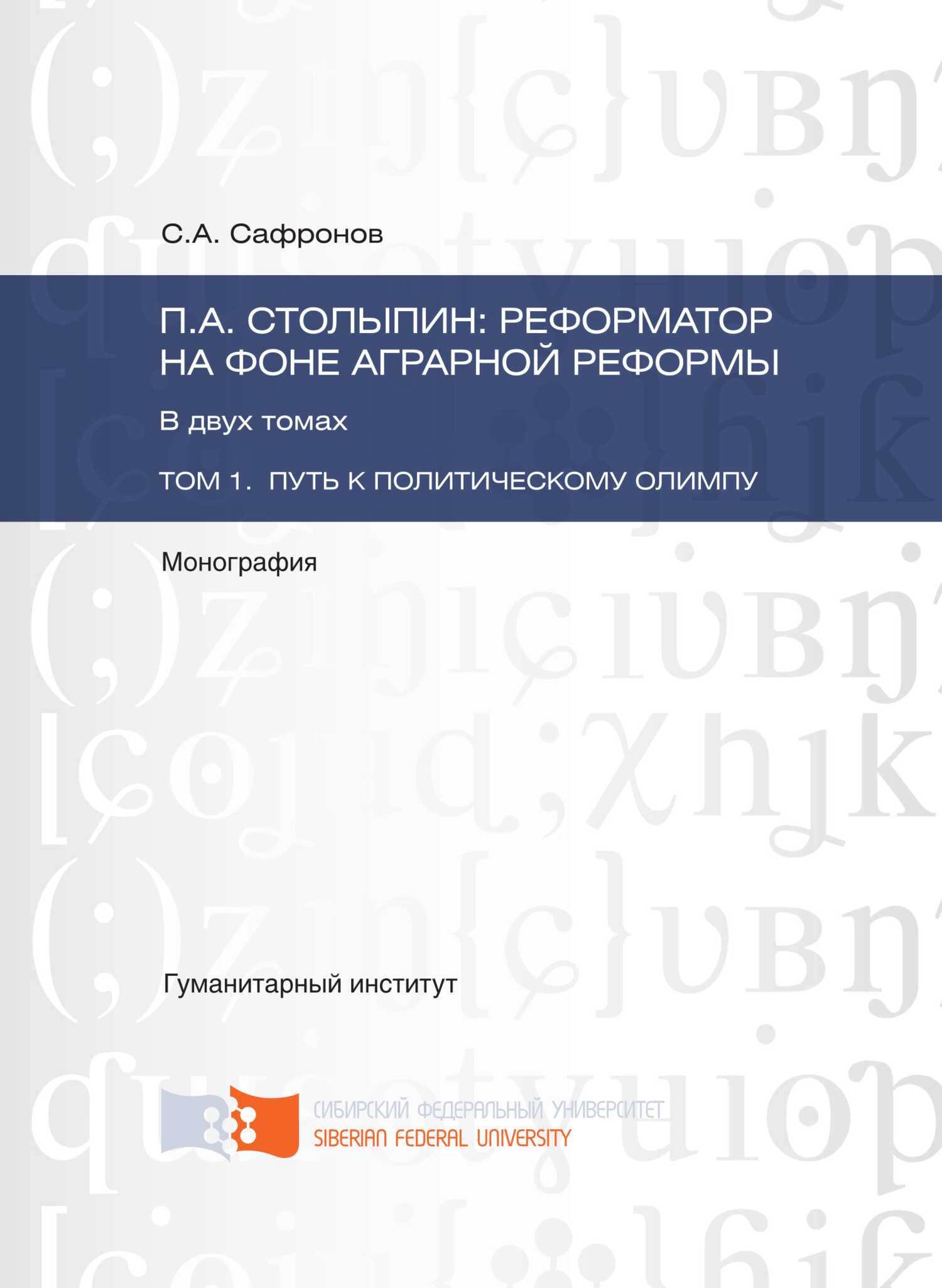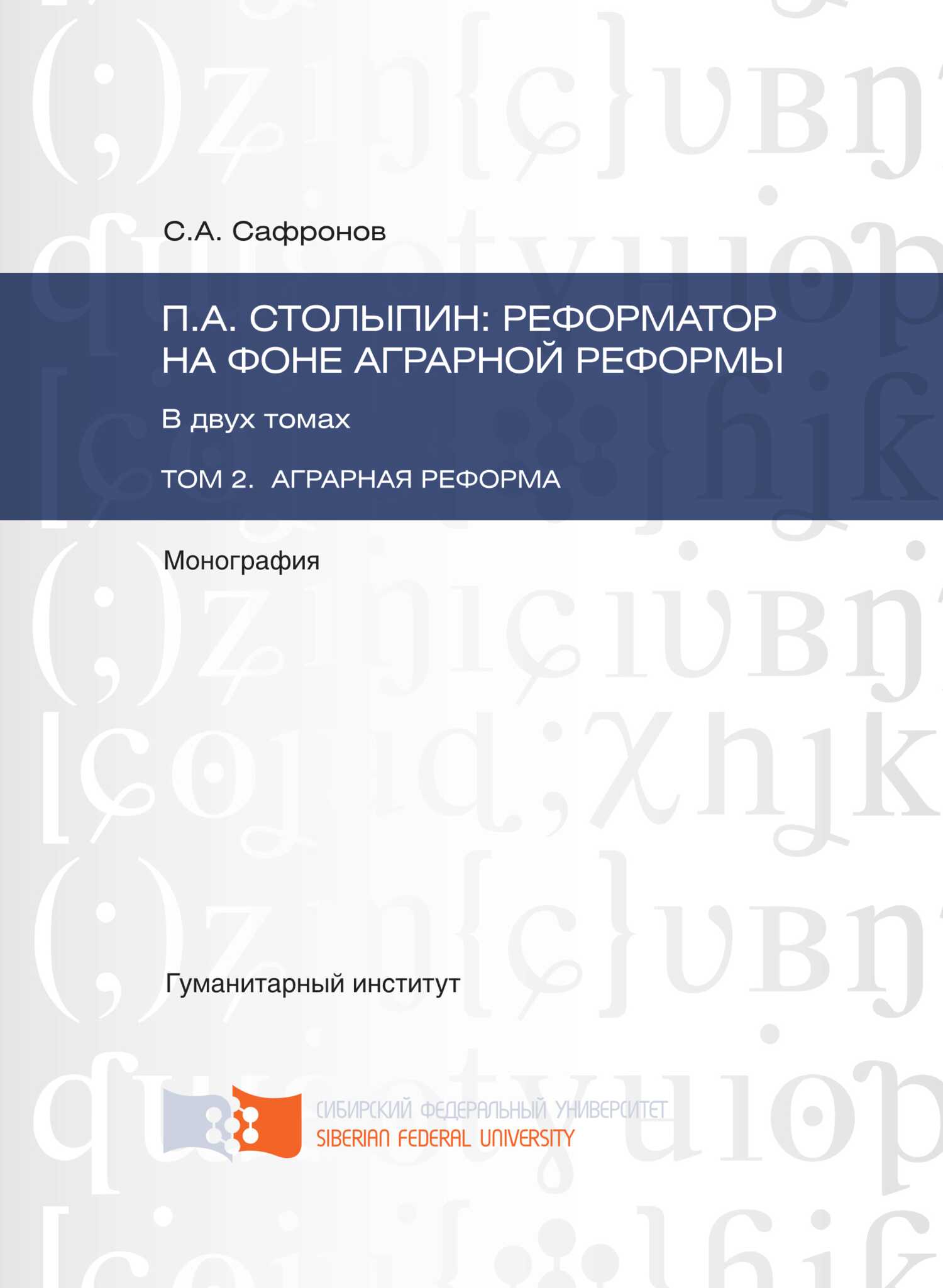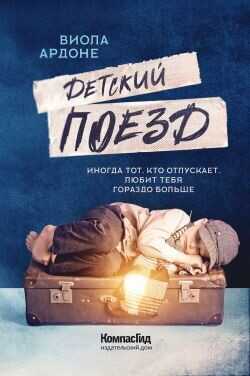если ты здесь, потому что южный ветер донес до меня твой запах, и я пойду на него, и найду тебя. Всю свою жизнь я шёл как по кровавому следу, и теперь не страшно, не может быть страшно покинуть всех и нырнуть в море чужих людей, потому что она где-то рядом, её поезд задерживается, но она рядом. Он не боялся – точно родился и вырос здесь, на этом вокзале, точно сфотографировал глазами план эвакуации, и запомнил все залы и все этажи, и у него точно хватит времени обыскать их все. Он выходил к поездам, где было шумно и пахло креозотом, и путевой пылью чужих дорог, но все эти дороги были в той книжке, и какой бы ты ни пошла, я найду тебя. Там, на перронах, было как на всяком вокзале, как на Нижегородском вокзале в Дементьевске, темно и прохладно, и пахло пылью, но это был квадратный двор, и полтора десятка путей в нём упиралось в тупиковые призмы, в пряничный вокзал. Дороги начинались отсюда, и, какое направление ни выбери, мимо этого места не пройдёшь. Он поднял глаза, хоть и не надеялся видеть звёзд, потому что большие города засвечивают небо, но там была рифлёная металлическая крыша – не на всю длину перронов, только на их начало, но Фил не отходил далеко, она была где-то ближе. И он снова нарезал круги по огромному, как целый город, зданию, один зал, другой, третий, и проходил каждым проходом между всех рядов кресел, заглядывал во все щели, во все углы и во все двери. Он не боялся – а чего было бояться? – он теперь был взрослым, как и она, они оба ехали в командировки, каждый по своим маршрутам и задачам, и теперь было свободное время, когда можно вырваться из-под надзора долженствования, но он только этого и ждал. Ради этого, ради этих ударов последних метров поиска надо было родиться, и висеть на заборе, и перейти в сто двадцать пятую, и вообще всё это вытерпеть.
Он нашёл её на втором этаже вокзала, за водораздельной горой чёрных чемоданов. Она спала на плече какой-то девушки, на неё похожей, и Фил тронул её за плечо. Это было так неожиданно просто – тронуть за плечо. Она проснулась.
– Привет. – Фил опустил голову, и все мышцы напряглись, потому что она должна была закричать, потому что он пришёл из её кошмаров. Внутри всё дрожало, и стены качались перед ним, и мир качался, она закричит, и всё рухнет, и погребёт их под обломками, и их тела найдут рядом.
Но она не закричала.
– Фил, это ты?
Это было шёпотом, громким среди вокзального шума – так говорят со сцены в театрах её мира, но слышит весь зал. Она не хотела никого будить.
– Да. Мы тут тоже отсюда едем, сергачским поездом, – быстро, быстро объяснить всё, чтобы она не подумала плохого…
– А у нас поезд задержали. А ты… на всеросс?
– Ну да. По географии…
– Да, точно… – Она улыбнулась, и апрельская зябкость выпала из его рук. – Я помню, на награждении окружных. Ты там не был?
– Нет… Пойдём хоть прогуляемся? А то здесь не присядешь даже.
Если она откажется – он возьмёт её за руку и утянет за собой, вырвав плечо из сустава, за всё хорошее. Но она пошла за ним.
По пути Фил завернул в какую-то забегаловку, взял кофе – взрослый человек на свои деньги может купить на вокзале кофе, если даже он и дорого стоит, а он дорого стоил, а Фил кофе не любил, но он имел право. Она отказалась от кофе, но дождалась его, и они пошли к поездам. Фил закурил, она смотрела, и не отстранялась, и в облаке дыма вдыхала этот дым и Фила вместе с ним. Она шла рядом, и их руки соприкасались. Нет, Фил не думал, что это из-за него – она боялась ещё сильнее, и боялась, что, если уйдёт и он, она потеряется тут, так, надо думать, было дело.
– Ты курить начал?
– Ну да. – И голос мой дрожит.
Динамики говорят, она говорила и динамики. Электрички на Егорьевск, на Фаустово, на Черусти, пензенский поезд, оренбургский, воронежский. Два десятка путей, за гранью рифлёной крыши синее и беззвёздное небо, потому что большие города засвечивают небо, на нём не видно звёзд, и не провести обсервацию.
– Да у нас по-прежнему всё, – она говорила, и смотрела в пол, на Фила не смотрела. – Костров подстригся. Инна, кстати, от нас ушла.
– Инна. – Да знал он это всё, лишь бы говорить, ни о чём и не о чем, рука твоя болтается и соприкасается с моей, но я выше тебя. – Инна – это которая подруга твоя?
– Да мы не подруги…
Она осекается, смотрит в пол, поворачивается к нему и смотрит в пол, она не смотрит, но то и к лучшему, она может читать мысли, но лучше бы не читала.
Надо что-то делать. На часах – без двадцати пяти одиннадцать. Скоро они проснутся, и его хватятся, или не хватятся, но так будет ещё хуже. Он достал ещё одну сигарету, закурил, так солиднее, так проще, в дыму я думаю о дыме.
– Ты много куришь.
– Да, – пепел надо стряхнуть так, как будто это ничего не значит, – да, скоро ехать, а там не покуришь.
– У вас там правда все курят?
– Ну почти.
Она молчит. И я хочу молчать, руки наши соприкасаются, для этого надо было рождаться, но время начинает бежать тогда, когда совсем не должно этого делать, я не владею им. Я долго шёл, и звёзды вели меня, чтобы наши азимуты пересеклись, но точка единична, и скоро я двинусь дальше. Эклиптика вот-вот пересечёт небесный экватор. Точка весеннего равноденствия, весна, апрель, Казанский вокзал. И ночь, ночью темно и не видно нас, но здесь много людей, и много света.
– А я бы хотел убежать.
– Куда?
– Ну, не знаю. Тут много поездов. Сядем на любой и поедем, – сядем мы без паспорта моего, как же, – доберёмся до Астрахани, там сейчас весна. И всё цветёт, и лотосы цветут.
– У тебя есть кто-то в Астрахани? – Нет, она не отрицает, она спрашивает и надеется.
– Нет. Но там лотосы.
– А как туда добраться? У нас не хватит денег…
– Я бы не ошибся. Можно идти по солнцу, нужны только часы. Ровно в час дня посмотри на солнце, и это будет точно юг. Оно смещается от востока через юг к западу на пятнадцать