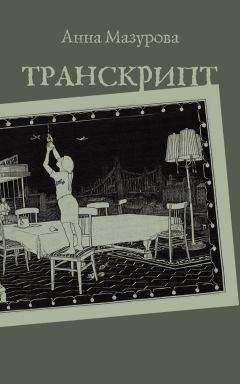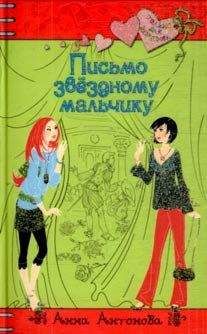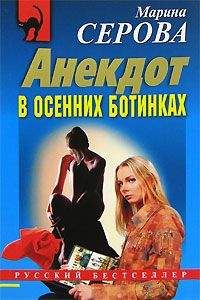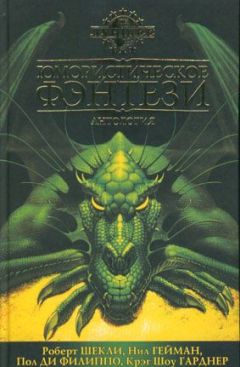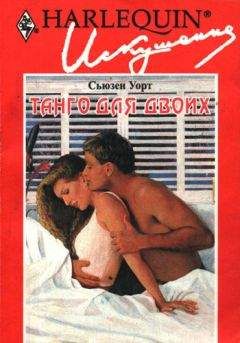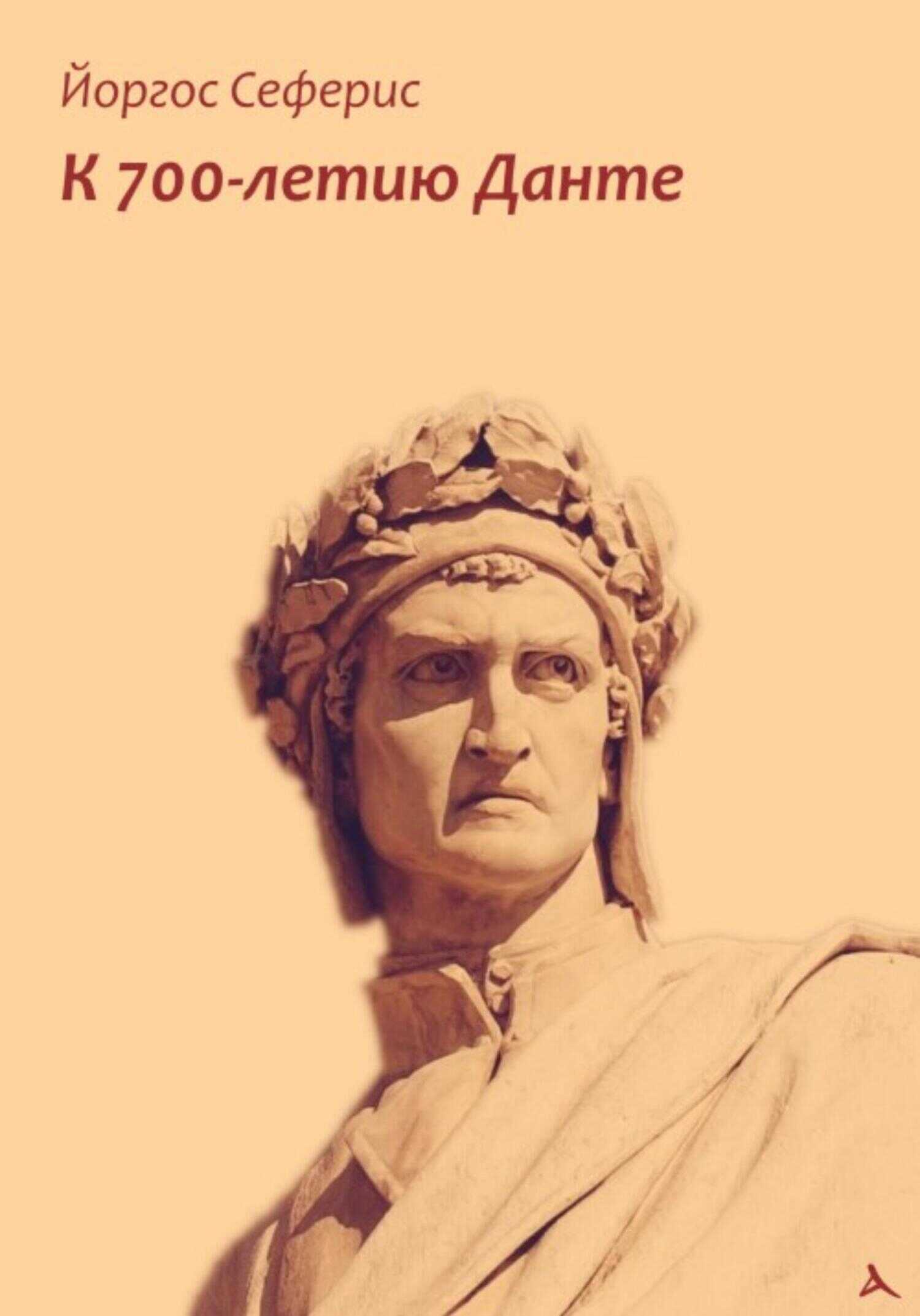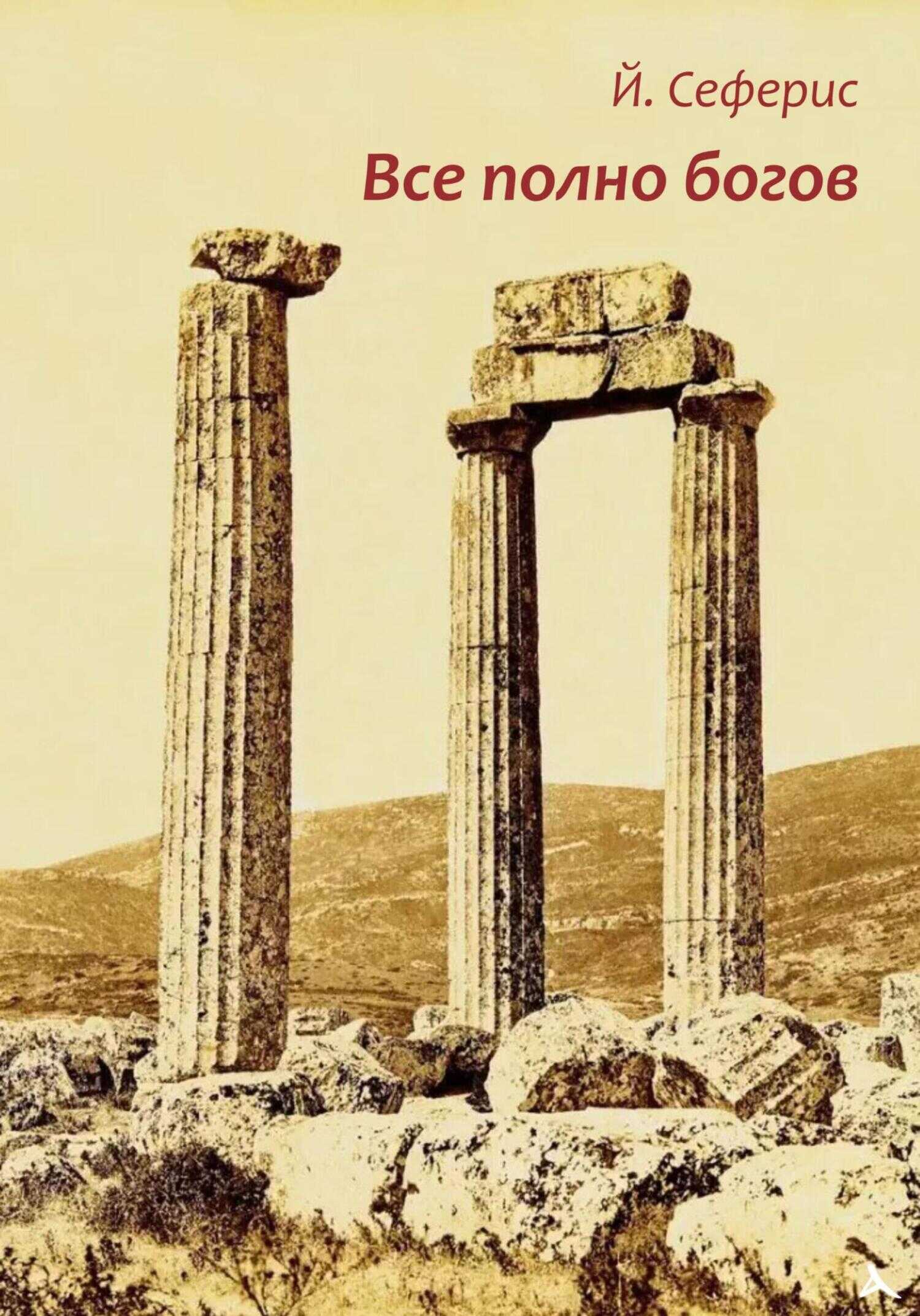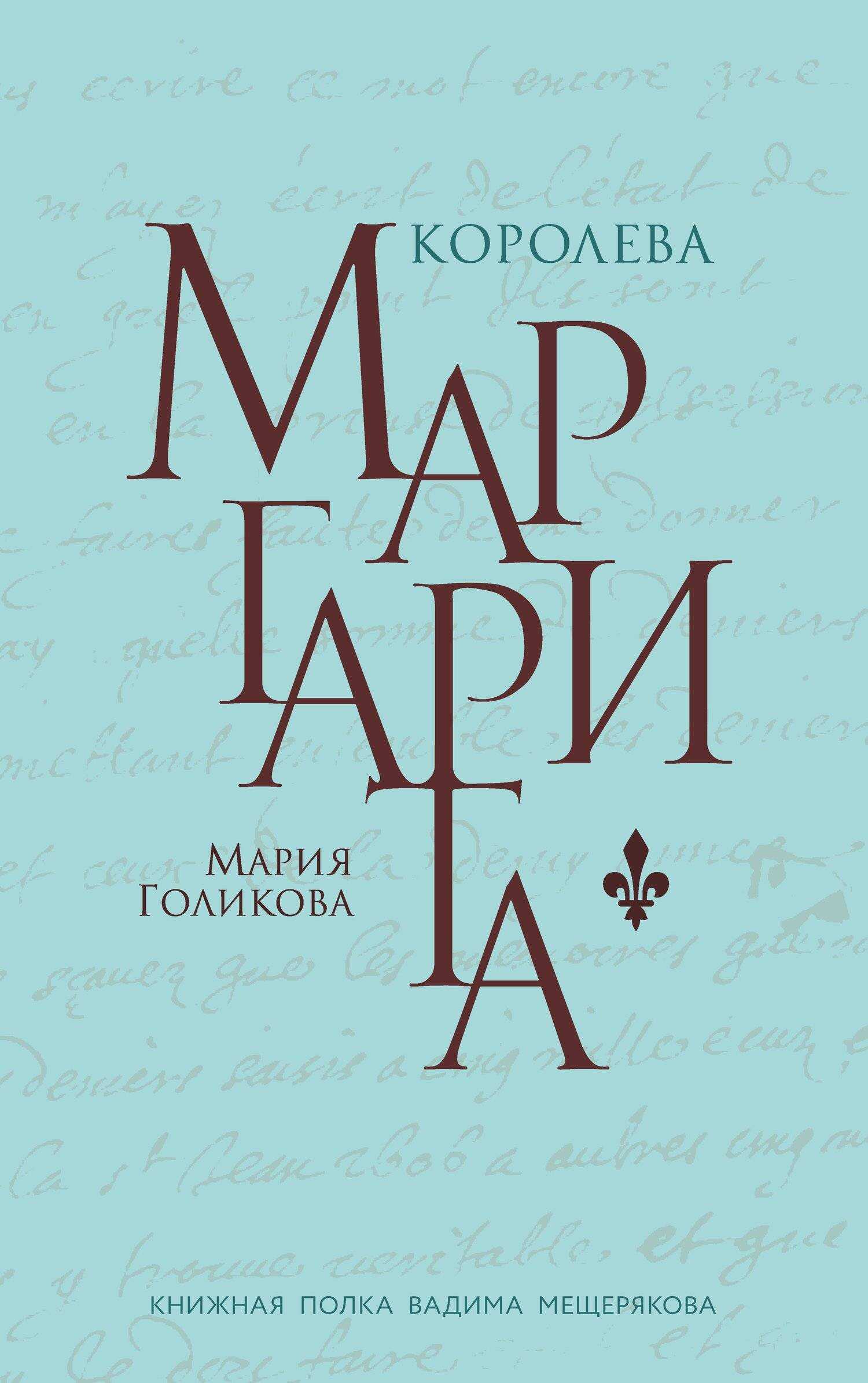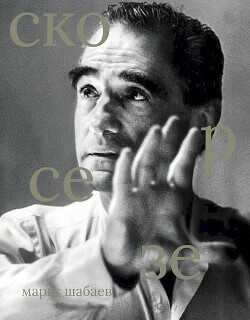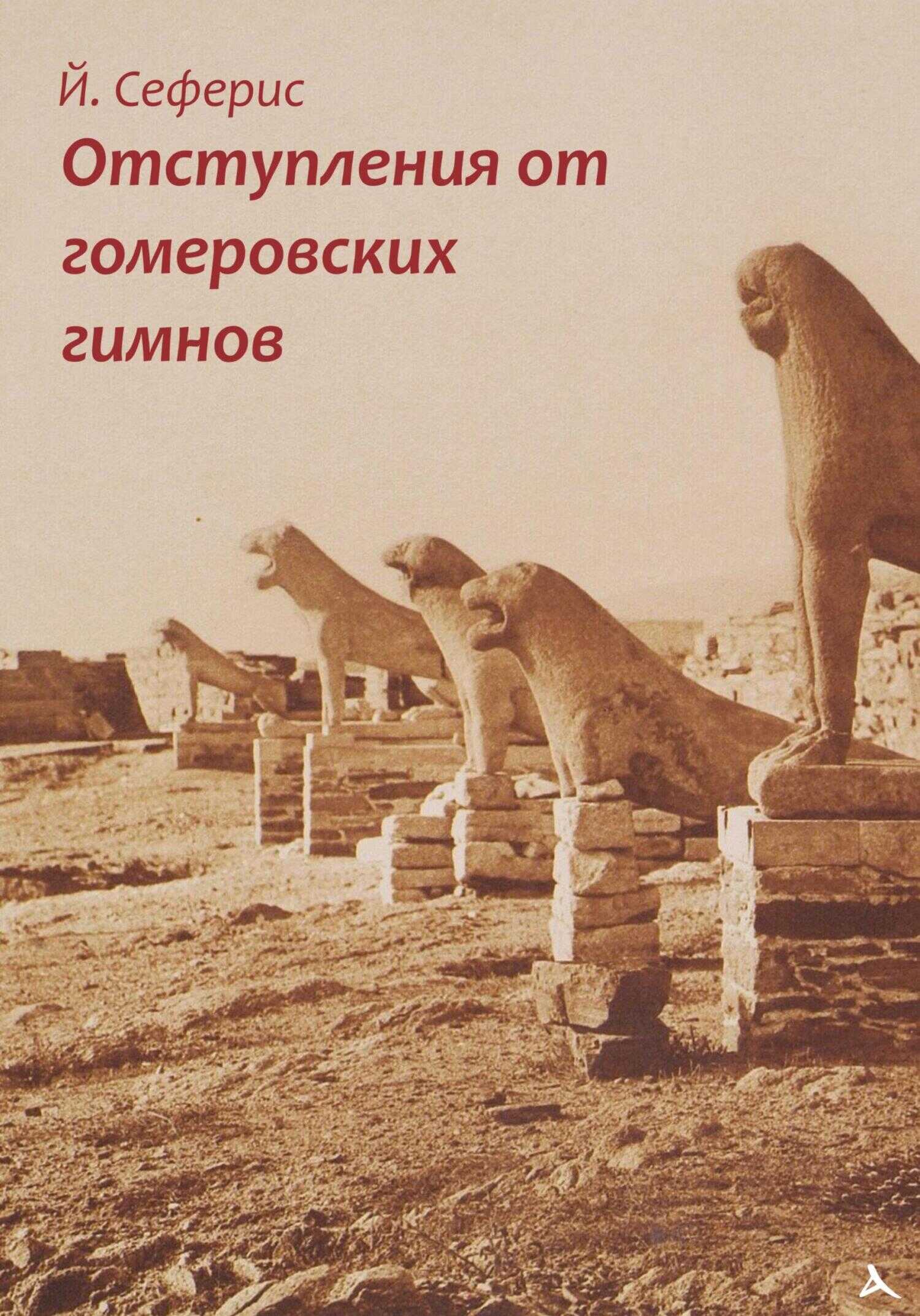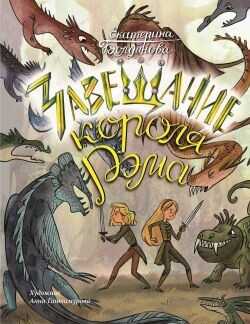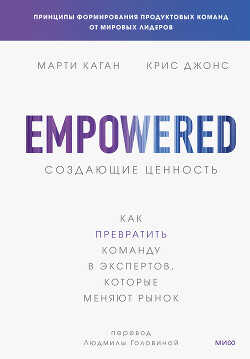– Вот медведь! – сказал он довольно. – Не розового же брать?!
И тут же брезгливо сморщился:
– А бывает, чтоб сделано не в Китае?
– Вот в Bildung-романах, там всегда отказываются нажимать, – говорил Муравлеев. – А в Fach-романах, там другая динамика, там просто так из-за рычага не встанешь, ответственность большая. И потому павильон…
– И у тебя всегда такие мысли? – спросила его Инезилья. Инезилья зевала. Муравлееву сделалось стыдно. Так случилось, что лучший аттракцион, «Убей человека», остался, увы, нерассказанным.
Обрисовываю условия задачи.
– Позвольте предъявить? – кричит защитник и машет записной книжечкой.
– Предъявляйте, – кивает судья, а в голосе: предъявляйте, не предъявляйте…
Защитник приближается и кладет на стол замызганную синюю книжечку. Подсудимый смотрит на книжечку мечтательно, там еще и алфавит кириллицей, не открывая видно: Арт. 1546-27,011р Ц. 66 к., ОСТ 81-48-82. Смотрит, но в руки не берет – за последние пару лет здорово вышколен, не делает резких движений, которые могут быть неправильно истолкованы охраной, на все ждет указаний защитника и ни на чем не оставляет отпечатков пальцев.
– Можете взять в руки, – улыбается адвокат. – Это ваше?
Он кивает, берет трясущимися руками, на первой же странице натыкается и забывает обо всем на свете. Что там, вам не видно. Из 1-го вагона направо? Телефон мастера из ЖЭКа? Так или иначе, защитник возвращает его к действительности:
– Это ваш дневник?
Он опять кивает и листает страницы, причитываясь то тут, то там, пока не отняли.
– Когда вы в последний раз видели этот блокнот?
– Тогда, – говорит он просто.
– У вас конфисковали его при аресте?
– Да, – говорит он.
– Два года назад? – уточняет защитник.
– Наверное, – отвечает он.
– Попрошу занести в протокол, что мой подзащитный последний раз держал в руках блокнот еще до ареста.
Подзащитный читает так, что даже присяжные чувствуют себя лишними. Все, только не адвокат.
– Вы ознакомились? – спрашивает он.
– Вкратце, – криво усмехается подсудимый.
– О чем там? – тепло спрашивает адвокат.
– Обо всем, – естественно отвечает подсудимый. – О жизни.
– О том, как жена называет вас подонком, мудаком, швалью, паскудой и паразитом? Вынимает из ведра половую губку на палке и, не отжав, вам в зубы? Вы притаскиваетесь ночью со смены, а она в кухне с бутылкой водки, и в воздухе хоть топор вешай? И как вам счет из больницы подложила, вы смотрите – аборт, а вас она уже год, как не подпускает? И как, наконец, замок сменила, выметайся и все тут? – в хронологическом порядке диктует адвокат.
– И это тоже, – раздумчиво говорит подсудимый.
– Почитайте нам, – душевно просит адвокат.
Подсудимый принимается судорожно листать, чтобы выбрать лучшее, самое показательное, самый совершенный свой литературный труд. И Достоевский не стоял перед такой задачей: за полстраницы спасти мир от электрического стула. Отчаявшись, он останавливается, где придется, и начинает читать. Адвокат делает вам едва уловимый знак головой: позволить ему читать, не прерывать переводом, пусть слушают без слов, как пение птиц, симфоническую поэму Скрябина, неоцифрованный бас Шаляпина – бессмысленно, но гениально. А вы потом возьмете у него и с книжечки в переводе и зачитаете. И таким образом у вас высвобождается масса времени – у вас вечность высвобождается – чтобы во всех деталях ужаснуться, что же теперь вам делать. Он читает про день рождения дочери: внутрь его не впустили, но она, умница, вышла сама, сидела с ним в машине, он гладил ее по голове, вечером засыпал счастливый. Только она, – писал он в дневнике, – только она удерживает от Дурного Дела, сколько еще продержит – не знаю.
Когда вы приходите в себя, уже даже и судья орет: «Переводите!», и вы проклинаете все на свете, проклинаете адвоката за то, что он дал вам всю эту вечность – в своей секунде вы уж как-нибудь разобрались бы, сообразили, заодно перемыв пол, посуду, занявшись хозяйством, когда вернетесь весь из Флориды, не то чтобы загоревший, но вполне распаренный, красный, и обнаружите, что ваше место занято, а словари, перевязанные веревочками, выставлены в коридор, поскольку старушка-хозяйка, уже и глухая и ненаблюдательная по возрасту, не заметила, что не далее как позавчера вы заезжали домой за рубашкой, а буквально неделю назад торопливо рылись в бумагах, а еще какой-нибудь месяц назад – проспали полные семь часов в постели. Вы возьмете свои словари и почти без обиды выйдете с ними на улицу, и не такие измены пришлось разжевать в переводческом хлебе, да-да, в секунде бы вы – как дома, сейчас же – уже успели понять, что, с больших букв, Дурное Дело, вписанное в дневник за полгода до осуществления – это предумышленное, подготовленное, намеренное, в здравом уме и памяти и в состоянии кристальной трезвости. Это вышка.
Вы откашливаетесь, неторопливо берете в руки блокнот, пробегаете глазами текст, откашливаетесь еще раз, но перед смертью не надышишься. Тем более, что вы и так уже успели все передумать. И что в зале тысячью глаз, как античные фурии, требующие мщения за кровь, пожирают вас добрые люди – подружки, соседки, тетки, ваша собственная напарница, ну вылитая пушкинская дама (чем же она пушкинская? а тем, что всем своим обликом – стоптанными копытами, привычкой к скудости казенного пайка и казенного ухода – напоминает почтовую лошадь просвещения), и единственное, чего они не видят и не могут знать – это большие буквы. И что эти глаза будут преследовать вас, как пчелы, и жалить, а вы будете скитаться по храмам науки, дворцам правосудия и кельям переводческих будок, но избавления нигде не найдете. Да и вообще – почему это решать вам?! Почему вам? Там только отредактировать слегка, запятые там, туда-сюда, а текст простой: казнить нельзя помиловать, – ну что, возьмешься? Я никого не хочу казнить, я никого не хочу миловать, вы понасажали тут судей, присяжных, родственников, юристов, приставов, подсудимых, деревьев, развесили звезды, вывели сушу, заселили тварью, она плодилась и размножалась, разбирайтесь теперь сами! И вот сегодня я стою здесь и не могу уйти от решения. Либо так, как клялся на Библии – слово в слово и зуб за зуб – тогда отчетливо, для протокола, Д-У-Р-Н-О-Е Д-Е-Л-О, с больших букв, а там, в конце концов, пусть придумывает адвокат (самоубийство, к примеру). Либо так, как взывают ко мне его запахи – я привык наклоняться, когда он шепчет, и уже не отличаю его запахов от своих: изо рта запах старости, из подмышек – страха, от волос запах зверя, живущего взаперти и гадящего под себя, от униформы запах подвала, где их, доставленных связками по двое, расцепляют и лифтом, обитым войлоком, конвоируют в верхние этажи. Он сидит и пахнет мне так, как кричат накрик, эти запахи – тот материальный субстрат, которому я дал свой голос, неужели сейчас я своим голосом их – убью? Механизм лучших аттракционов, Карина, в том, чтобы выбить тебя из секунды, в которой ты неуязвим. А пафос профессионала – в том, что не даст он себя из секунды выбить. Это всегда инстинктивно чуют родители, заставляя детей хорошо учиться – что ни одна анестезия, ни запой, ни бабы не работают так эффективно, как секунда настоящего профессионала. Секундочку! – и ты уже оторвался, тебе не страшно, не больно, не жаль. Подумаешь тоже буддизм! Как избавиться от страданий? Элементарно. Стать программистом, врачом, адвокатом, переводчиком на худой конец. Самый дорогостоящий, но и самый действенный наркотик. Пойми же, детонька, без профессии ты пропадешь!.. Совсем забыл, ведь от меня, кажется, еще чего-то ждут? Ах, да… Только она, умница, красавица моя, все понимает, все видит, только она удерживает меня от плохих поступков, господин судья.
Озираясь вокруг, Муравлеев увидел, что здесь не Флорида. Лето кончилось. Ветер безжалостно драл обочины за буки и грабы. Какими нарядными, глянцевыми, недоступными вспоминались аттракционы, которые он напустил для Карины! Ехали на двух машинах. Фима взял выходной. Он вздрогнул и затормозил, заметив с краю мигалки мента, но мент уже кого-то поймал, и, зная их метаболизм, можно было спокойно проплыть, Фима опять наступил на газ, а за ним Муравлеев. Съезжая с большого шоссе на шоссе поуже и поплоше, Муравлеев опечалился. Но съехали и с этого шоссе, на этот раз на проселочную дорогу, ведущую, казалось, прямо в лес, и тоска забилась и заклокотала в Муравлееве, как кукушка в часах, предчувствуя урочную минуту.
Вокруг дома забором стояли стебли садовых ромашек с обуглившимися сердцами, мельтешила белая россыпь выродившихся, некормленых хризантем. Мелко тряслись деревья. Ровное, гладко-синее небо лежало надо всем этим, как запертая дверь на чердак.
– Вы еще успеете насладиться хорошей погодой! – вскричала Матильда, отпирая дверь.
Во всем доме не было ни одного прямого угла. Стены, пол, потолок продвигались каждый в своем направлении, здесь хорошо кататься на велосипеде. Матильда с любовью смотрела по сторонам, на ходу обдергивая паутинки. Фима прорвался в кухню, повертел плиту, обнаружил кастрюли, тарелки, остался доволен и ринулся в спальню. Такой дом мог сослужить хорошую службу молодому человеку, ищущему себя. Это был дом на характерные роли, личности в нем вполне хватало на двоих. Муравлеев зевнул. Но надо же где-то спать…