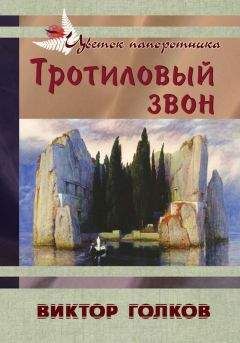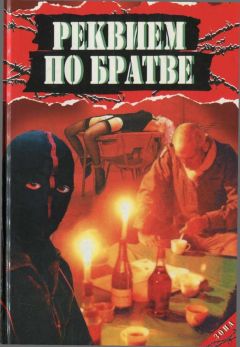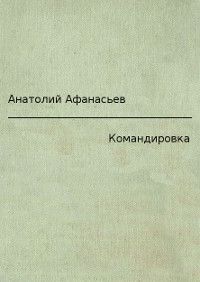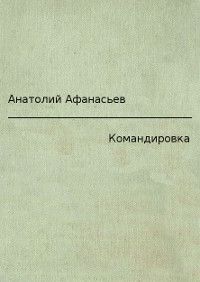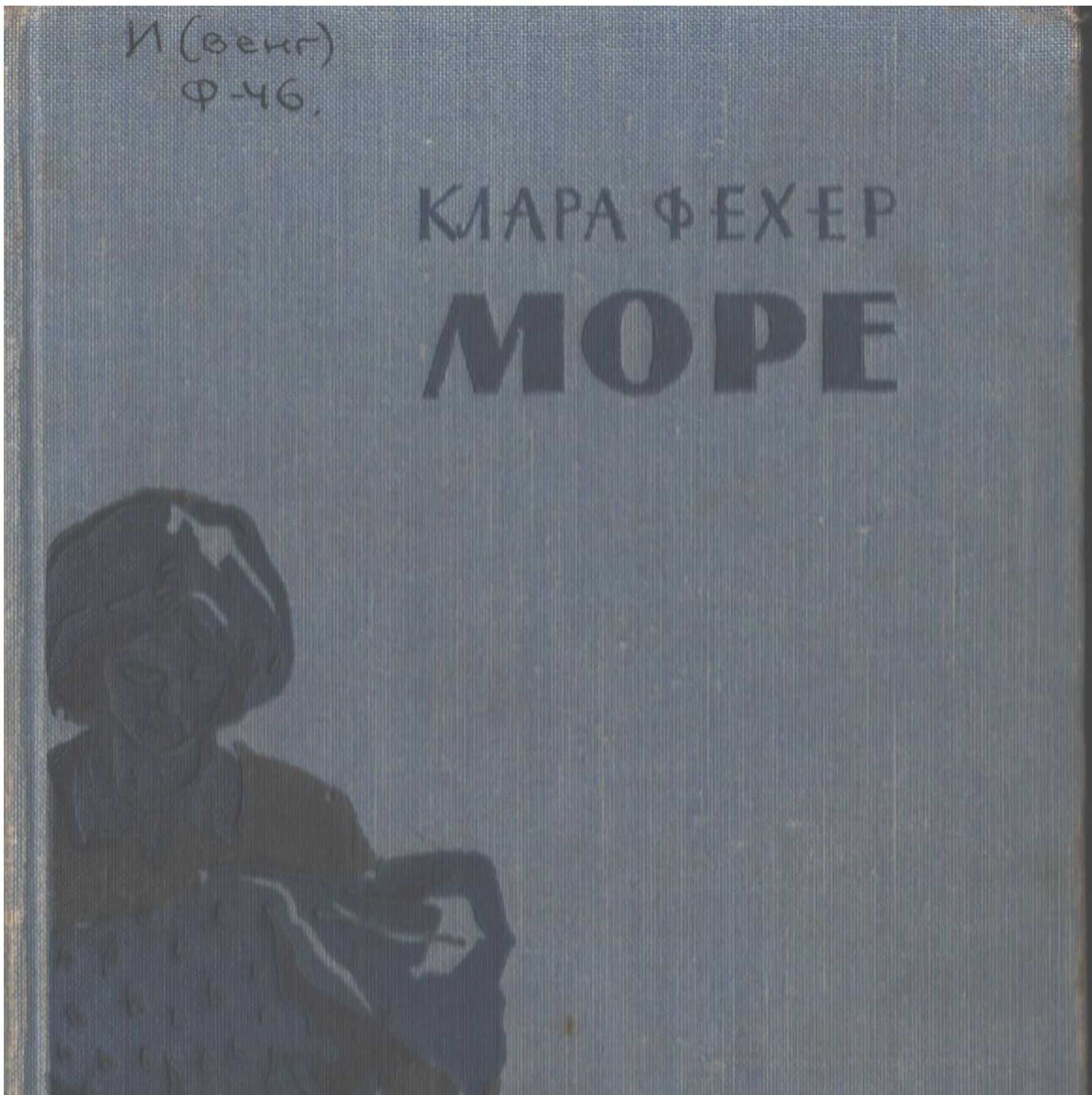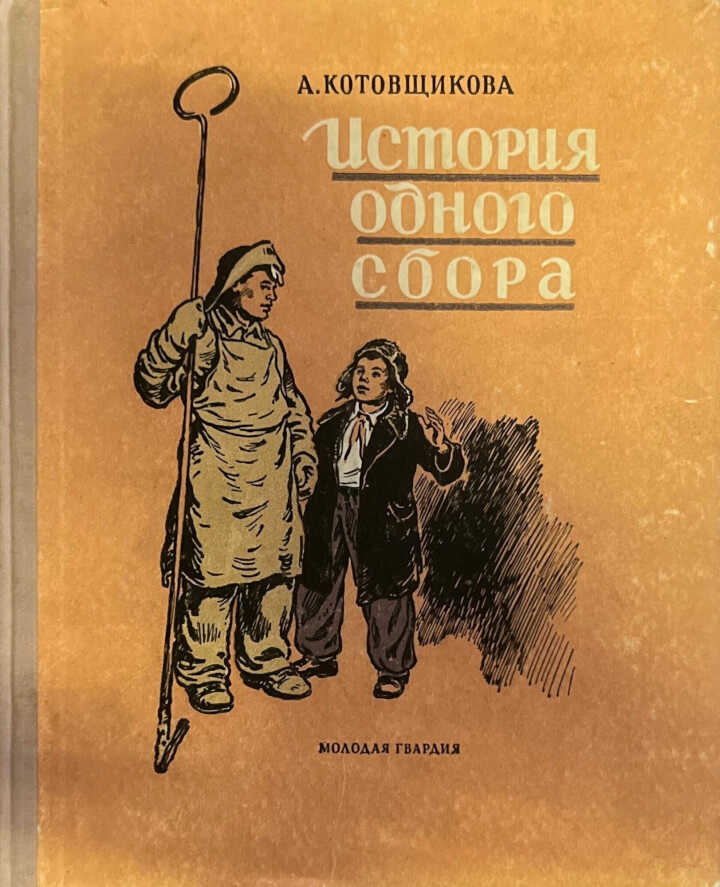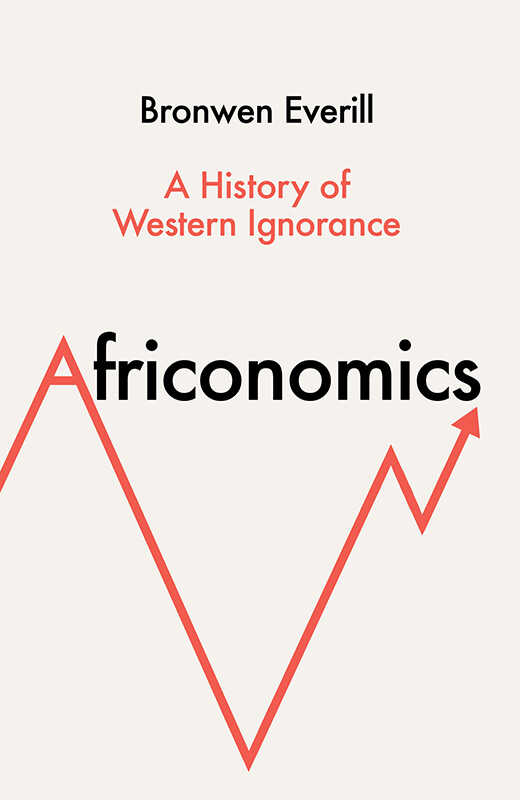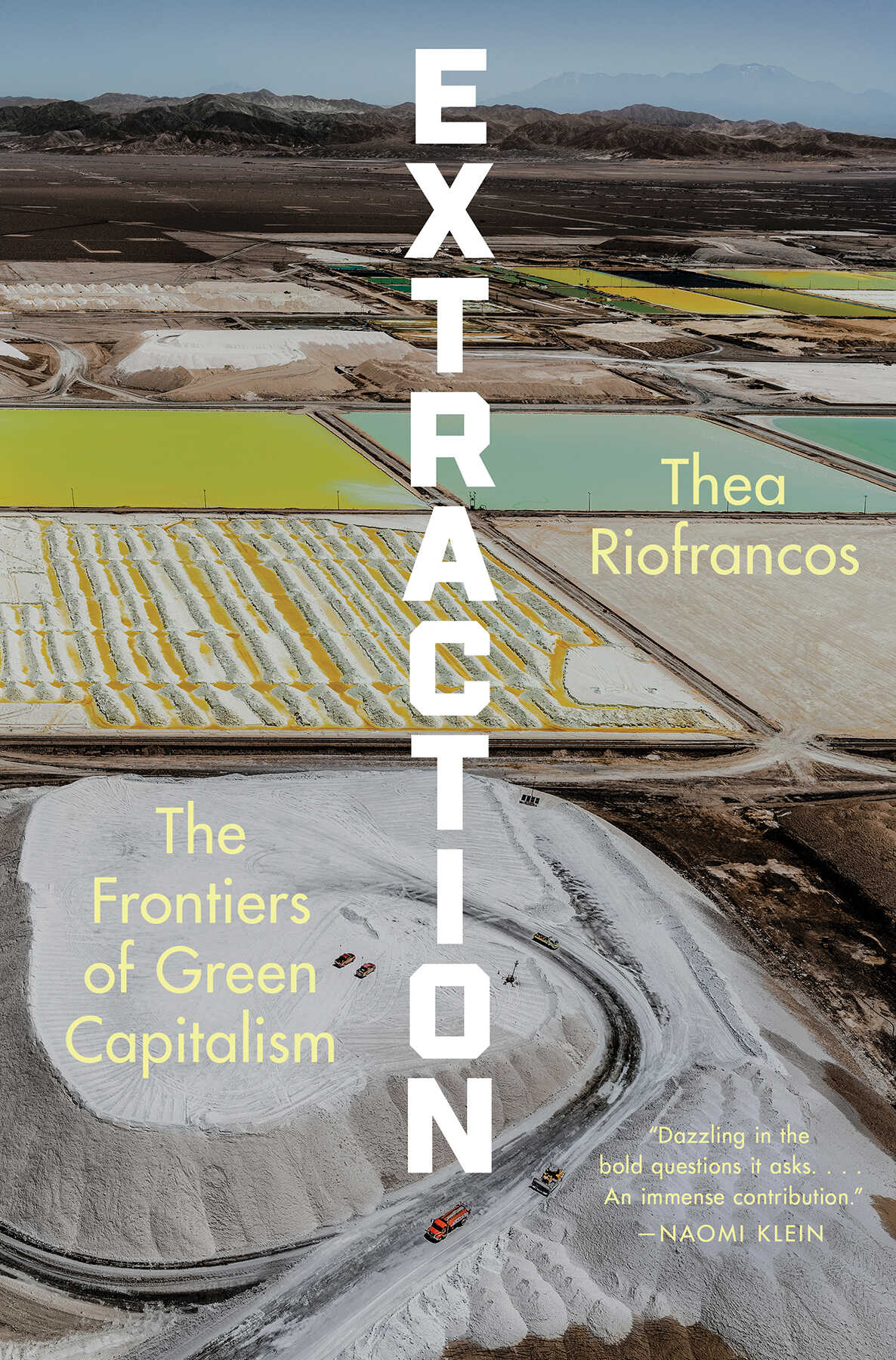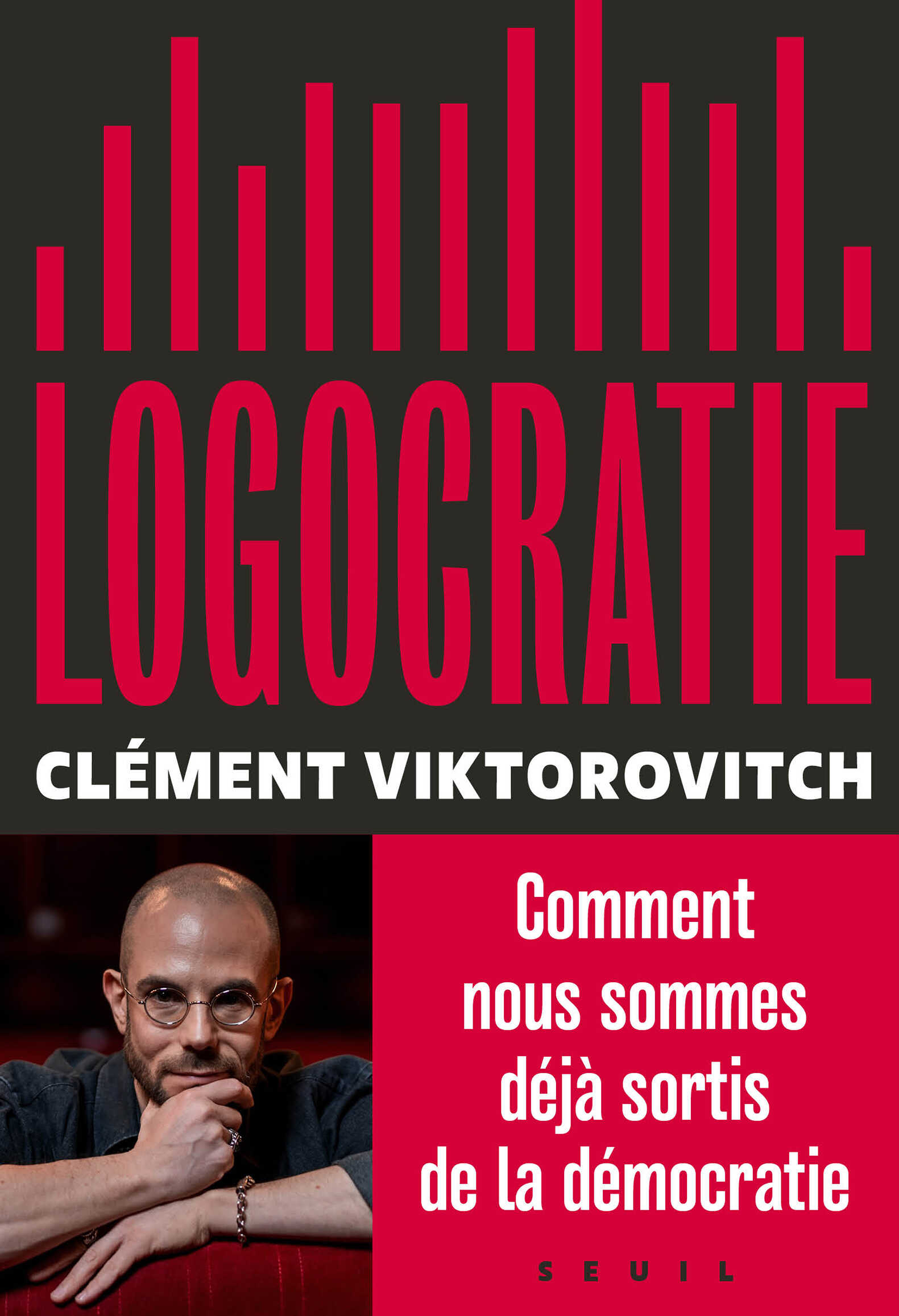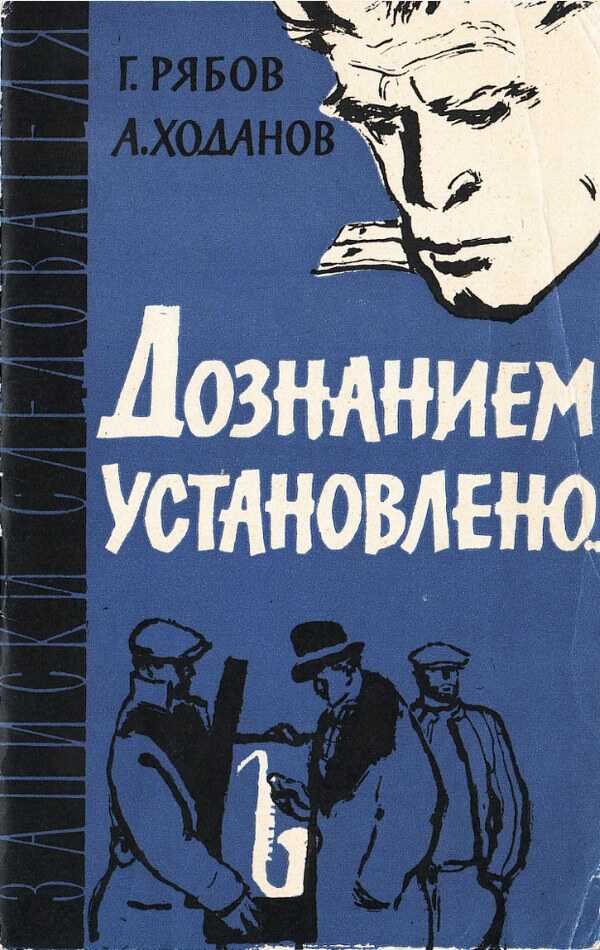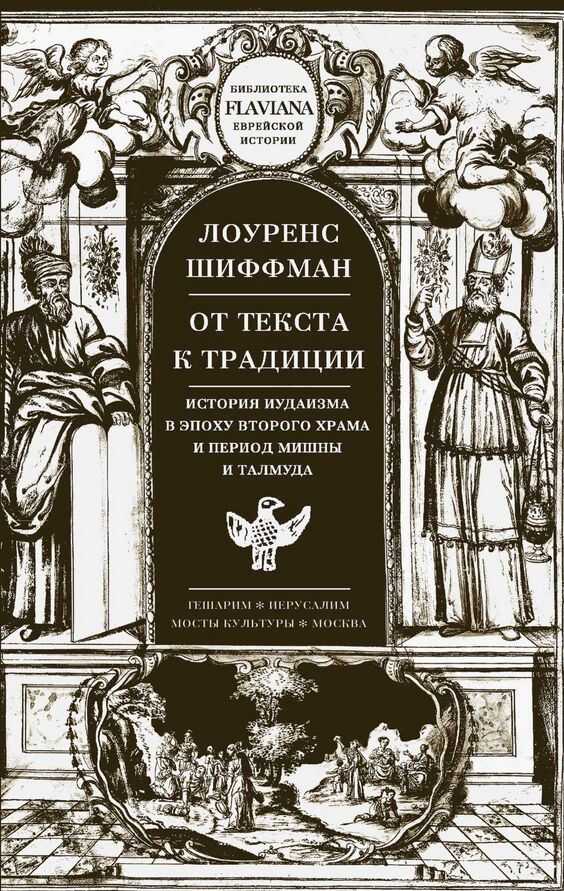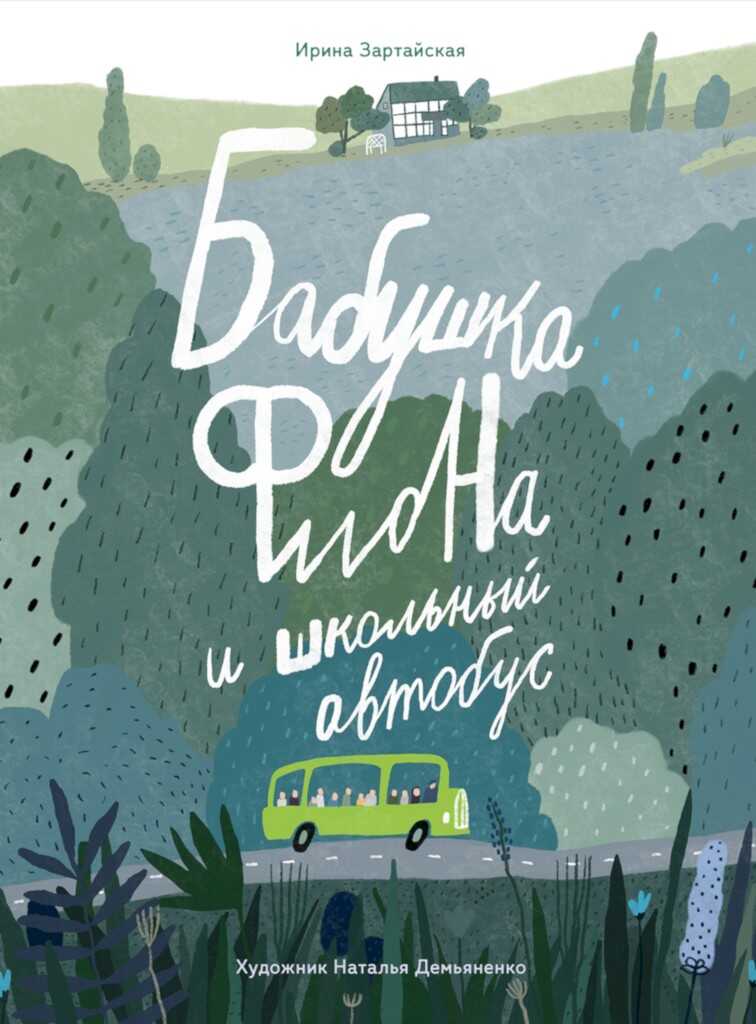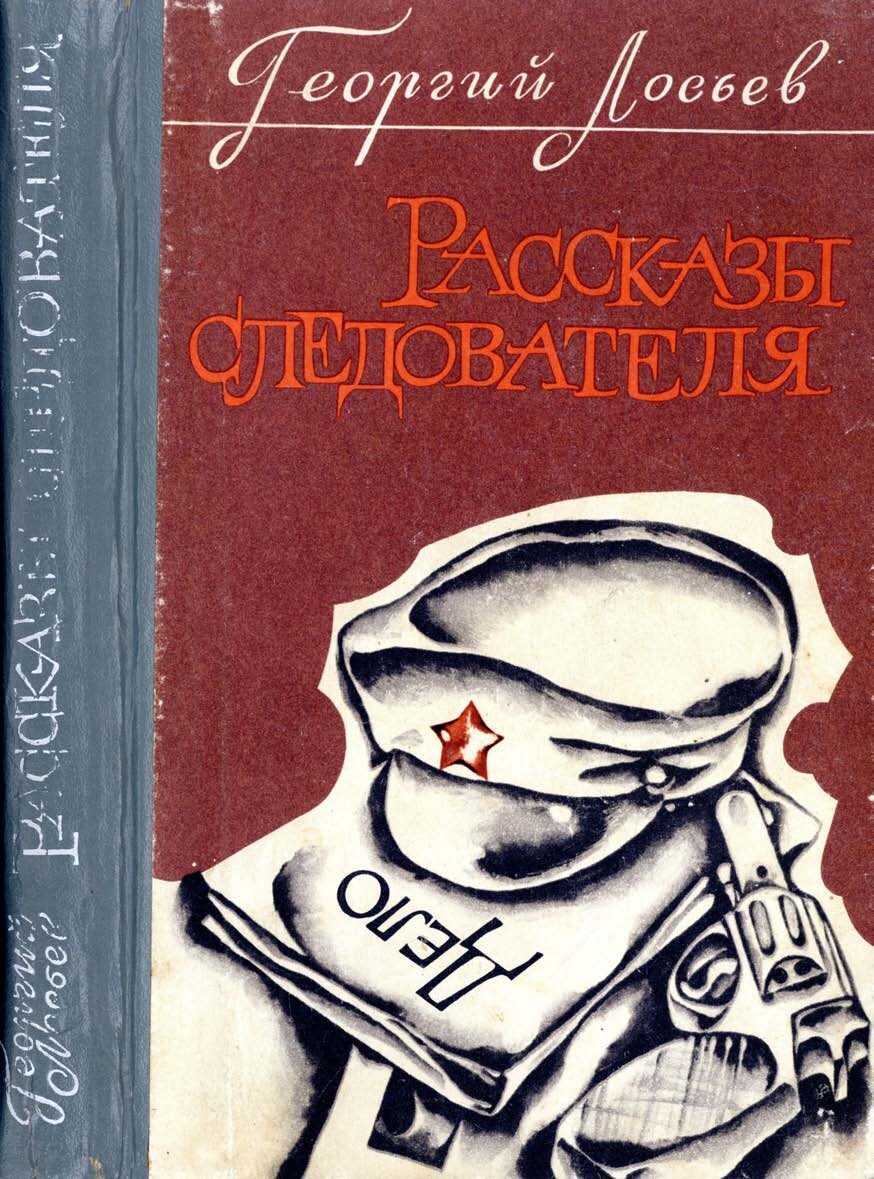Еще попробуем. Если ты любишь меня и если не любишь — все равно. Со мной происходит беда. Все клубочки моих клеток, весь я иссох. Это не объяснишь словами. Мне пустыня без тебя. Я хочу попросить прощения. Хочу ощутить на твоих губах вкус собственного раскаяния. Я жил шумно и не научился жить. Некогда было. Прости меня! Я как звереныш, мне хорошо знать, что тебе больно. Прости меня, Наталья, не осуждай. Я знаю, женщины умеют отказываться раз и навсегда. Не откажись от меня, Наталья! Не откажись. Еще разок попробуй стерпеть. С каждым днем я буду становиться лучше. Уж поверь. Твой муж великий человсх, эталон добродетели, но ты же не любила его. Мы обнимемся с тобой и уснем. Твое дыхание станет глубоким и ровным. Ничего, что дни наши отмерены, во сне не бывает пределов. Только бы уснуть вместе, и все образуется. Сном исцелятся печали. Почему у тебя отвечают длинные гудки?
Странно, свое одиночество в квартире я никогда не воспринимал как одиночество. Наоборот, всегда с нетерпением спешил домой. Спрятаться, отдохнуть. Так было до появления Натальи. Друзья навещали меня редко отдаленный район. Женщин я не приводил к себе вовсе. Наталья вошла в мою квартиру, в мой дом, как к себе домой, и я ни разу не подумал, что ей тут не место. Это ли не свидетельство, по крайней мере, необычности происходящего между нами? Перст судьбы. Смешно, чем глубже погружается человек в мир точных исчислений, тем привлекательнее становятся для него теологические символы. Не случайно один мой высокоумный приятель как-то с пеной у рта доказывал, что второй закон термодинамики и учение мистиков сомкнулись. Он в это не верил, но ему очень хотелось в это поверить.
Уже седьмой час, где же она все-таки болтается?
Я набирал ее номер раз и другой. Принял душ и поставил чайник. В хлебнице засыхало полбуханки черного хлеба. Я решил, что открою шпроты и этим поужинаю. В магазин идти было лень. Подозрительно начинало покалывать в левом плече.
В половине восьмого дозвонился. Хрипловатый, низкий, как со сна, голос Наташи сказал: «Алло, я вас слушаю!» Она меня слушала, еще не подозревая, что это я.
— Из прокуратуры вас беспокоят, — сказал я. — Поступил сигнал, что вы распространяете в районе холерные палочки. Это правда?
Чего уж я ожидал — бури восторга, пения, потери сознания? Сам я мгновенно ослабел до испарины.
— Виктор? Ты? — мое чуткое ухо уловило какойто перебой в ее голосе. Здравствуй!
— Узнала все-таки! Где тебя черти носят? Третий час названиваю. Наташенька, дорогая! Давай, накидывай быстро распашонку и ко мне. Какой я тебе подарок привез — зашатаешься и упадешь. — Чутье подсказывало мне, что надо трещать, не останавливаясь. — Ах как я рад тебя слышать, Натали. У тебя все в порядке? Ну, конечно. Ты еще не готова? Я отопру, ты не звони. Дверь открыта, прямо сразу входи. Давай, Наталья, поскорее. Ты соскучилась? Я весь прямо высох. Ну быстрее, миленькая. Ой, умираю! Врача, врача! Участкового!
— Витя, — сказала она, — перестань паясничать.
— Почему?
— Ты можешь меня выслушать?
— Обязательно по телефону?
Уже выползало из трубки ядовитое жало, уже видел я его свинцовый блеск, но не хотел видеть, отворачивался, гундосил с натужной бодростью:
— Что с тобой, дорогая? Что случилось? Я не попимаю. Приходи ко мне. Будем пить чай, и ты все расскажешь.
— Я больше не буду к тебе приходить, Виктор.
— Как это? Ты что, ногу сломала? Тогда я к тебе сейчас прибегу.
— Не надо, Витя. Я решила.
— Ты решила?
Жало настигло меня и вонзилось в левый бок под лопатку. Я и охнуть не успел. Это бывает. О любовь разбивают лбы, как о скалу. Но сейчас-то повода не было, никакого повода у нее не было так себя вести.
— Какая муха тебя укусила, Талка?
Я как бы и не замечал зловещих пауз в нашем разговоре, как бы и не замечал, что некоторые мои вопросы она небрежно оставляет без ответа. Не замечал, потому что это было слишком.
— Ты уехал, не попрощавшись, — сказала она. — Мне было очень тяжело. Я много думала о нас. Ты жесток, Виктор. И несправедлив. Я не хочу больше ничего…
Гудки. Отбой. Что за ерунда? Я присмотрелся к трубке. Обыкновенная телефонная трубка. Пока я снова набирал номер, в моем мгновенно воспалившемся мозгу пронесся рой самых невероятных предположений.
— Ты это брось! — крикнул я. — Не смей вешать трубку. Говори по-человечески. Ты себе нового хахаля нашла, да? Так и скажи. У вас это быстро делается. Смена караулов. А трубки нечего швырять, слышишь. Не смей!
— Витя, — сказала она, — веди себя прилично.
Я попытался выудить из ее голоса хотя бы оттенок волнения, живого чувства, нет, он был ровен и безразличен, как текущая вода. Хуже, в нем было чувство, но чувство мелкое. Обыденное. Так раздражаются, когда вынуждены вести надоевший разговор.
— Ничего не понимаю, — искренне произнес я. — Объясни, Наташа, сделай милость. Да, мы поссорились, я уехал в командировку. Это обычная ситуация в отношениях двух людей. Если говорить начистоту, я до сих пор считаю, что ты вела себя некрасиво. Не предупредила, куда-то пропала. Но ладно, это прошлое. То, что ты говоришь сейчас, просто нереально, противоестественно… Допустим, ты полоумная, но ведь я нормальный человек. Мне надо иметь какие-то объяснения, какие-то факты. Или мы не люди, Наталья?
Ты меня сейчас отшвыриваешь, как будто я чемодан.
Ты что? Опомнись! Даже в поведении сумасшедших есть своя логика. В твоем поведении логики нет… Ступай ко мне немедленно!
Она досадливо вздохнула.
— Ты чего молчишь? Онемела?
— Витя, нам нельзя быть вместе.
— Это я слышал, дальше!
Некий проблеск надежды мелькнул мне, и я уселся поудобнее, поджал под себя ноги, которые тряслись.
— Я уже была с жестокими людьми, — сказала Наташа. — Больше я не выдержу. У меня дочка, Витя.
Маленькая дочка, ей нужна мать. Ты все время называешь меня полоумной. А вдруг я и правда сойду с ума? С кем останется моя девочка? Витя, я не умею объяснить, ты сам потом поймешь, так лучше. Постарайся мне не звонить больше…
— Буду звонить, — заревел я. — Буду! Я тебя отведу к лучшему в Москве психиатру… — Каким-то телепатическим зрением я увидел, что она собирается положить трубку. — Подожди! Не смей! Слушай меня.
Я знаю, что кроется за твоими выкрутасами. Все очень просто. Пока я был в командировке, ты с кем-то снюхалась, и теперь тебе кажется, он лучше меня. Добряка встретила? Этот добряк тебя и укокошит. У добряков в кармане финка. Я знаю. Ты что это, Талка!
Вот, слушай. Я тебе подарок привез. Приходи, мы все обсудим.
— Ты не изменишься, — с полоумной убежденностью возразила Наталья. — Ты таким родился. Витя, не отнимай у меня время…
Я не выдержал:
— Пропади ты пропадом, дрянь безмозглая! Я тебе звонить не буду. Я сейчас к тебе сам приду! Я тебя выведу на чистую воду!
Бедный мой аппарат треснул от удара трубкой.
Я ни минуты не сомневался, что все это пустая блажь. Подлый женский каприз.
Я не пошел к ней, напился чаю и лег спать. Я ее ненавидел и проклинал всю эту долгую, теплую, влажную летнюю ночь.
Опять автобус, утренняя московская толчея, пересадка на «Октябрьской» как будто никуда не уезжал.
Коллектив встретил меня сдержанно. Некоторое оживление наступило, когда я начал раздавать самодельные шариковые ручки. Но и то какое-то умиротворенное оживление. Даже Мария Алексеевна Кондакова, наш профорг, была, против обыкновения, замкнута и молчалива.
— Будто с похорон все! — удивился я.
Оказалось, угадал. Вчера похоронили Валерия Захаровича Анжелова, заместителя Перегудова, милейшего пятидесятилетнего человека, миротворца, к которому из всех отделов ходили за советами и за помощью, как к брахману. Он умер на диванчике в коридоре. Возвращался с планерки в свой кабинет, почувствовал себя плохо, присел на диванчик. Вежливо улыбаясь, попросил у кого-то проходящего мимо таблетку валидола. Пока тот бегал за лекарством, Анжелов умер.
— Не может быть! — сказал я глупо. — Не может быть!
— Помер, помер! — подтвердила Мария Алексеевна, утирая платочком сухие, блеклые глаза. Я вспомнил, поговаривали о старинном романе между ней и покойным. Покойным! Когда я уезжал, Валерий Захарович меня напутствовал:
— Вы поосторожнее там, пожалуйста, Виктор Андреевич. Не давайте волю эмоциям.
На лице у него было выражение, будто он знал что-то такое, о чем не мог сказать. Впрочем, это его обычное выражение. С таким же лицом он сидел на собраниях и летучках, выслушивал жалобы и просьбы, подписывал деловые бумаги, поедал в столовой порционные обеды. Одно уточнение. Это его тайное знание, которым он скорее всего действительно владел, не было тягостным и мрачным. Валерий Захарович своим видом словно постоянно намекал всем и каждому: погоди-ка, братец, ты думаешь, у тебя неприятности, а я знаю такую вещь, от которой ты скоро радостно запляшешь. Только наберись терпения. Такое лицо — капитал, талант. Никто и не подозревал, что у Анжелова больное сердце. Да оно у него и не болело, если он не носил с собой валидол.