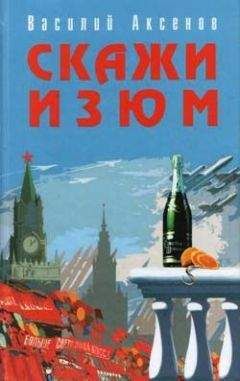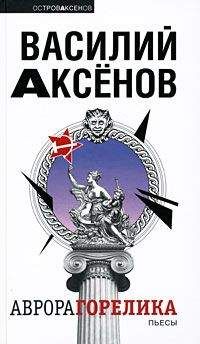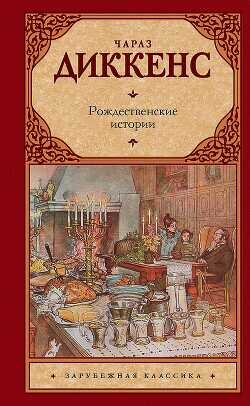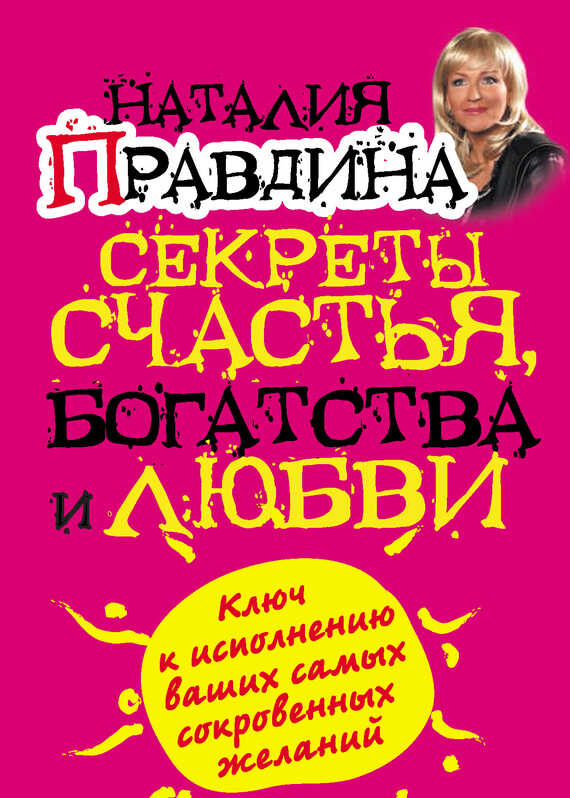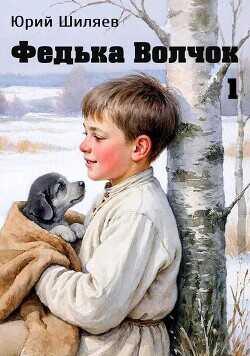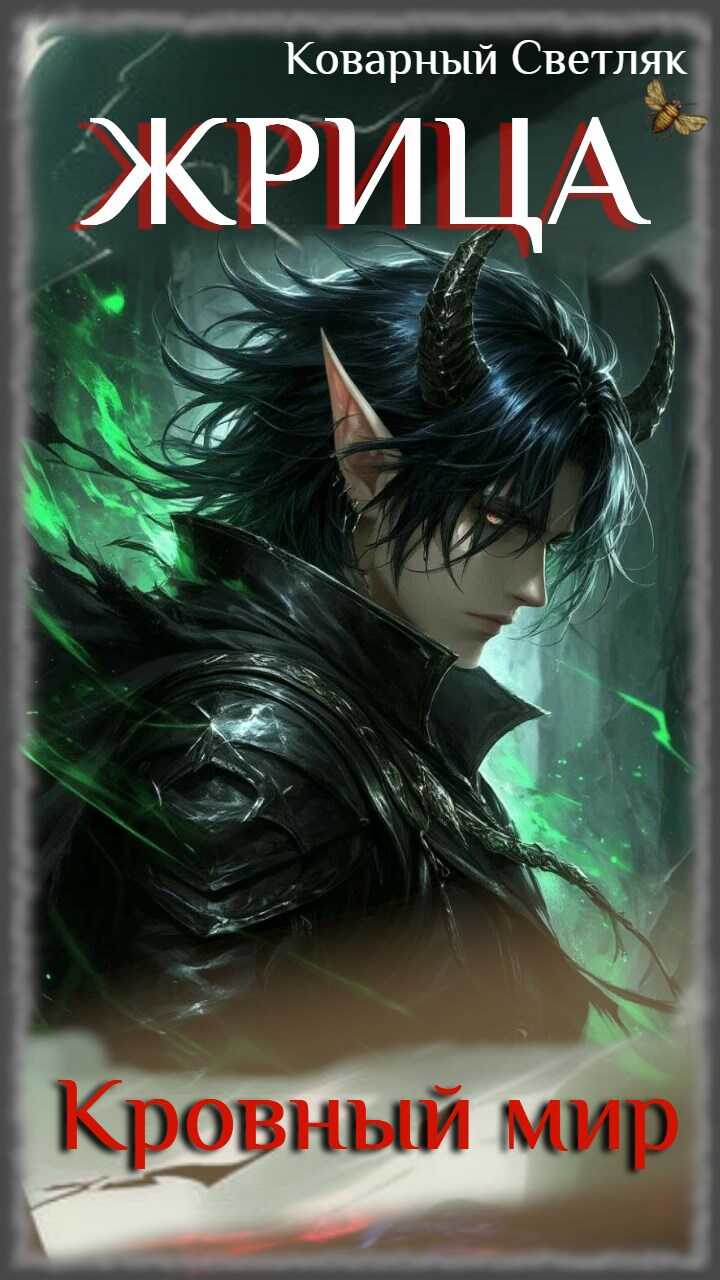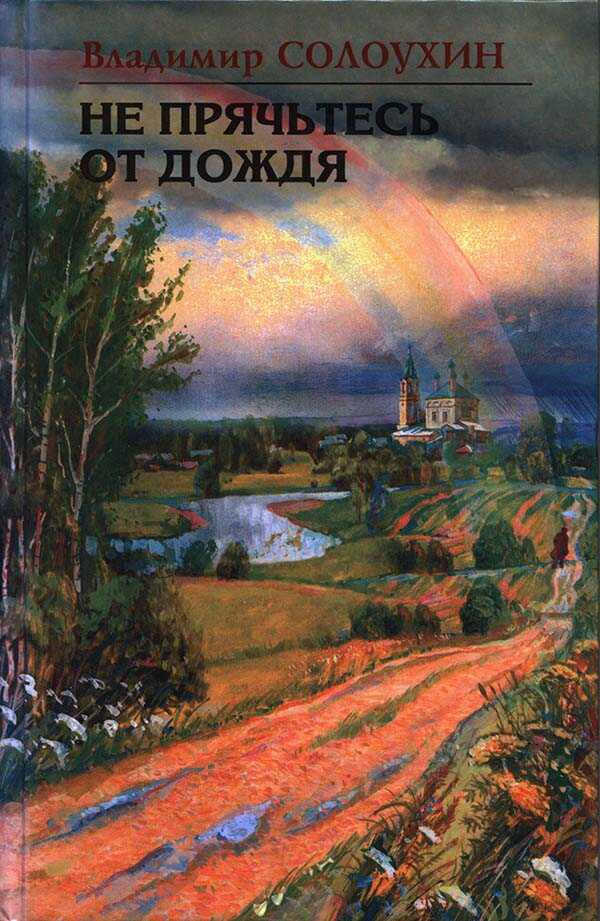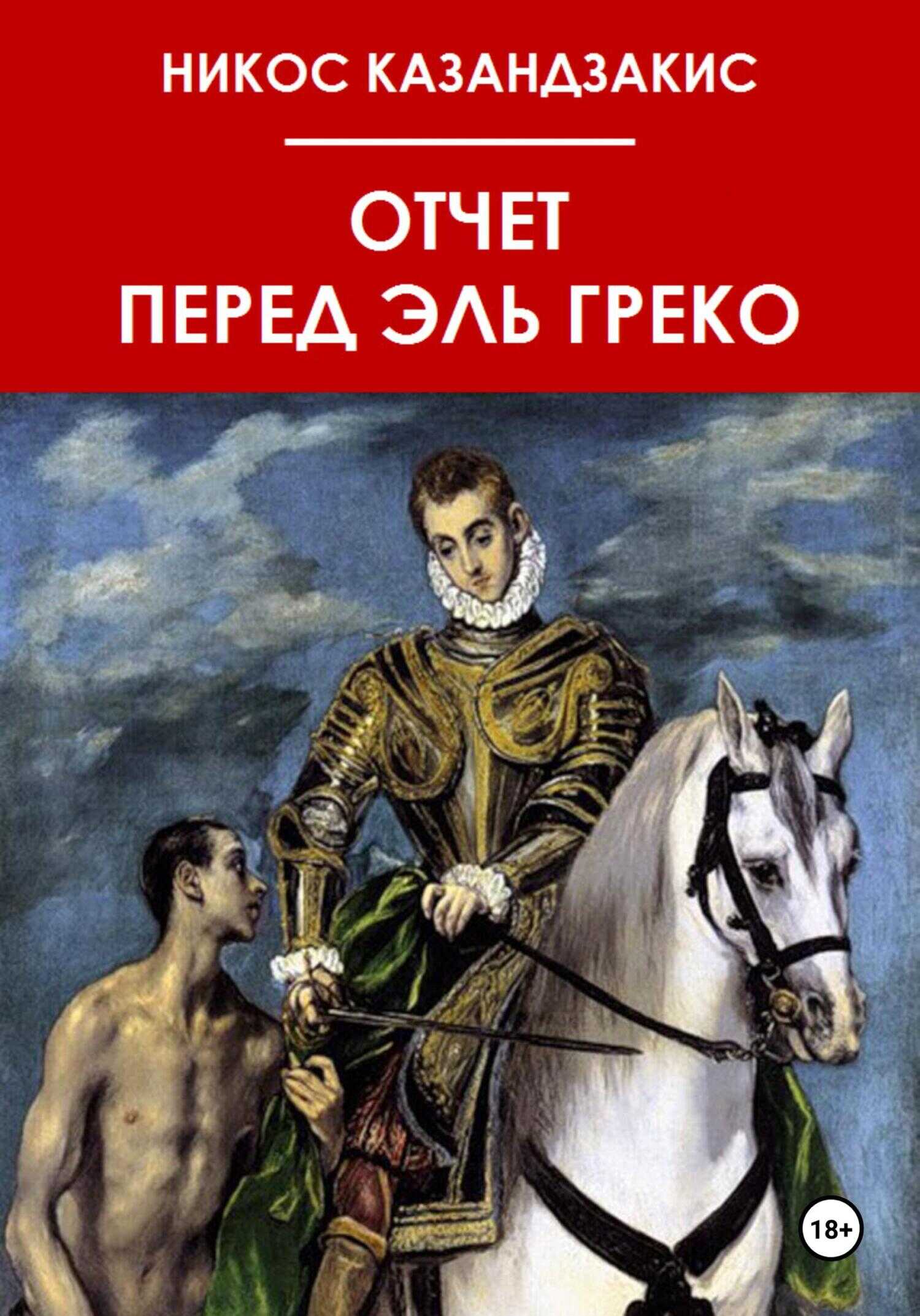Володю пот прошиб, и все иностранные алкогольные влияния мигом испарились. Как позволил себе позорно дезориентироваться? Где нахожусь и не знакомые ли лица вокруг, мать моя родная, ленинская авиация? Да ведь как раз они мельтешат, «новофокусники» и «изюмовцы»! Вот и Охотникер с рыжей бородищей, вот и Пробкинович – шустряга крошку Жанин кадрит. В секторе принято было к русским фамилиям ненадежных фотографов присоединять еврейские окончания – ну, просто развлекаются ребята, чтобы от скуки не сдохнуть, на антисемитизм, конечно, это не похоже. Эге, держись, разведка, за пол, в углу-то разглагольствует не кто иной, как Андрюшечка Древесневич, ближайший кореш перебежчика Огорода (этому «евича» не совали, поскольку папа в партийной истории), а вот Славка Германович (когда из больницы выписался?), а вот и сама бандитская рожа Шуз Жеребятникович… ну и дела! Слязгин, говна кусок, прохлопал такую «геттугезину», просто преступную проявил халатность наш товарищ Николай. А что, если вот здесь и передадут альбом иностранному агенту? Да вот хотя бы этому молодчику и передадут, ишь рука какая твердая, ишь как жмет…
– Филип, – представился Сканщину молодой незнакомец в сером костюме-тройке.
– Николай, – назвал одно из оперативных имен наш капитан, отвечая давлением на давление.
– Владимир или Николай? – спросил вышеупомянутый.
– Это почти одно и то же, – сказал Сканщин. – А вы здесь зачем?
– Я здесь для осмотра московских достопримечательностей, – четко ответил Филип.
Какая отличная чувствуется в товарище подготовочка! Вот уго, без сомнения, опасный Филип. Из всех Филипов этот самый опасный. Ох, унесет наш альбомчик в чужие края! Вот, пожалуйста, наглядная – аж дрожь пробирает! – иллюстрация мудрых слов Леонида Ильича, которые на прошлом семинаре заучивали: «Вакуума в идеологической работе не бывает, и там, где мы позволяем себе прекраснодушествовать (вот такое слово!), немедленно (там или туда?) проникает враг!»
Всю оставшуюся часть чердачного шабаша Владимир Сканщин не спускал глаза с огромного альбома. Уже и Филип скрылся, и Жанин испарилась (на пару с Венькой, конечно), уже вся нечисть иностранная разлетелась с чердака, уже и своя идейная незрелость разбрелась, за исключением особо пьяных, а капитан все сидел в углу на медвежьей шкуре, отвергал и виски и джин, принимал только родную, стекленел все больше после каждого приема, пока окончательно не «отключился от сети».
Между тем «Вольво», возле которой рыцарь идеологической войны запарковал свою машину, принадлежала вовсе не иностранцу, а как раз наоборот – Андрею Евгеньевичу Древесному, потомственному российскому интеллигенту и до недавнего времени «одному из выдающихся мастеров четвертого поколения советского фото». Машина эта досталась ему лет пять назад стараниями, разумеется, Венечки Пробкина через какие-то пятые-десятые руки. Когда-то Андрей Евгеньевич весьма гордился скандинавским аппаратом, ему нравилось, как люди смотрят, когда он выходит из серебристой, как иной раз говорят за спиной: «Древесный ездит на «Вольво»!» Вообще когда-то, то есть пять лет всего назад, все было иначе – ярче, живее, непосредственней. Всерьез шли разговоры о выдвижении на Нобелевскую премию по фотографии. Женщины были желаннее на пять лет. Запахи и те были сильнее, красноречивее.
Странное дело: пять лет, ну, для «Вольво» какой-нибудь – немалый срок, но для человека-то, для артиста, по идее, пустячный, не так ли? Вот когда покупал эту штуку, на спидометре у нее было тридцать девять тысяч. Пустяк для «Вольво», говорил тогда Пробкин. У нее было столько тысяч тогда, сколько у меня лет за плечами. Хм, подумал я тогда. Идиотские поиски банальной символики. Сейчас мне сорок четыре, а у нее на спидометре – восемьдесят; значит, и мне восемьдесят лет, во всяком случае, что-то испытываю похожее на ее проблемы с зажиганием.
Андрей Евгеньевич был исключительно хорош собой, эдакий гармонический человек с хорошо очерченным и чистым лицом, с большими холодными глазами и густой шевелюрой. Седина на висках и запущенные как раз к покупке «Вольво» усики прелестей ему не убавили, а, напротив, привнесли в гармонию еще дополнительный какой-то («антисоветский», как иногда по пьянке говорили друзья) шарм.
Андрей Евгеньевич ушел с калединского вернисажа одним из последних и, спускаясь по пропахшей кошачьими ссаками лестнице, досадовал, почему не ушел одним из первых. Бессмысленный вечер в подозрительной толпе. Сколько раз давал себе зарок не приходить на подобные сборища, ну, а уж если приходить, то держать себя в соответствии с именем и положением в искусстве, поменьше болтать, ну, а уж если болтать, то не рассказывать «историй», когда тебя не особенно и слушают.
Удивительное какое-то стало замечаться в обществе пренебрежение к художнику с именем. Казалось бы, если только открываю рот, вы, падлы, должны сразу почтительно замолкать, но этого не случается. Неужели и со мной начинается то, что когда-то произошло с Игреком, Зетом, Омегой, теми звездами первой величины, когда их вдруг перестали считать!
Из официальной фотографии постепенно выталкивают – ни одного альбома за два года, главные снимки в столе – да еще и подпускают сплетню-подмогу, что Древесный кончился. Казалось бы, неофициальный мир должен поддерживать, поднять на знамя, а тут повсюду лишь кривые рты – Древесный, мол, любимчик Агитпропа… Вот и на Западе меняется ко мне отношение из-за этих внутренних мерзостей. Плюнуть бы на все и свалить за бугор, как Алька Конский, как Фима, как… Макс? Неужели и Макс? Да, теперь и он!
«Вольво» была, старая лошадь, засыпана снегом. Полез за веником в багажник, крышка скрипела, а мимо шли чердачные гости, какие-то немцы. Улыбнулись. Наверное, думают свои обычные пошлости – вот, мол, русской интеллигенции как хочется быть похожими на нас. Стал сметать снег и разозлился окончательно. Все-таки меня, меня назвал великий Барбизонье «выпуклым оком восходящего солнца», обо мне Спендер первый раз написал, меня первого заметили Нагоя и Громсон, а не Альку, не Славку, не Макса… Уйду в эмиграцию, но не так, как эти все стиляги, а в России спрячусь, в горы уйду, в завоеванные Кюхельбекером и Якубовичем горы… Никто лучше меня не снимал горные скаты! Максу и не снилось, он поверхностен, модник, не чувствует космоса… Тут совсем уже дикая мысль посетила Андрея Евгеньевича. Соблазню его жену Настю и останусь с ней навсегда в горах. Он все равно ее не любит, а ведь лучше женщины сейчас, пожалуй, не найдешь.
Усевшись на жгущее холодом сквозь джинсы сиденье, он стал гонять стартер. Когда-то и четверти оборота не требовалось, чтобы все ожило в машине, чтобы так мягко все датчики засветились и музыка запела, соединяя с современным человечеством. Каков, однако, смысл в деструкции металла? В старении механизмов, может быть, даже больше так называемой «несправедливости», чем в развале плоти, а? Человек в своей суете из года в год становится все более утомительным, истеричным, надоедает природе и здравому смыслу. Пора на свалочку. Ничего не жалко – ни славы, ни внешнего вида… жалко вот, когда стареет хороший механизм…