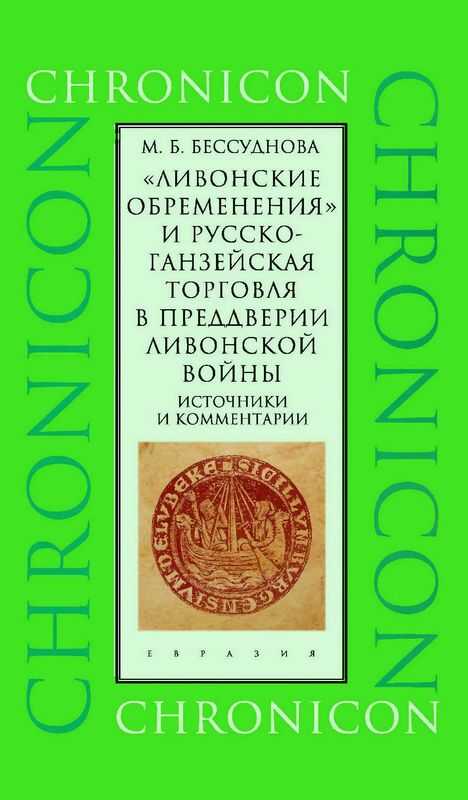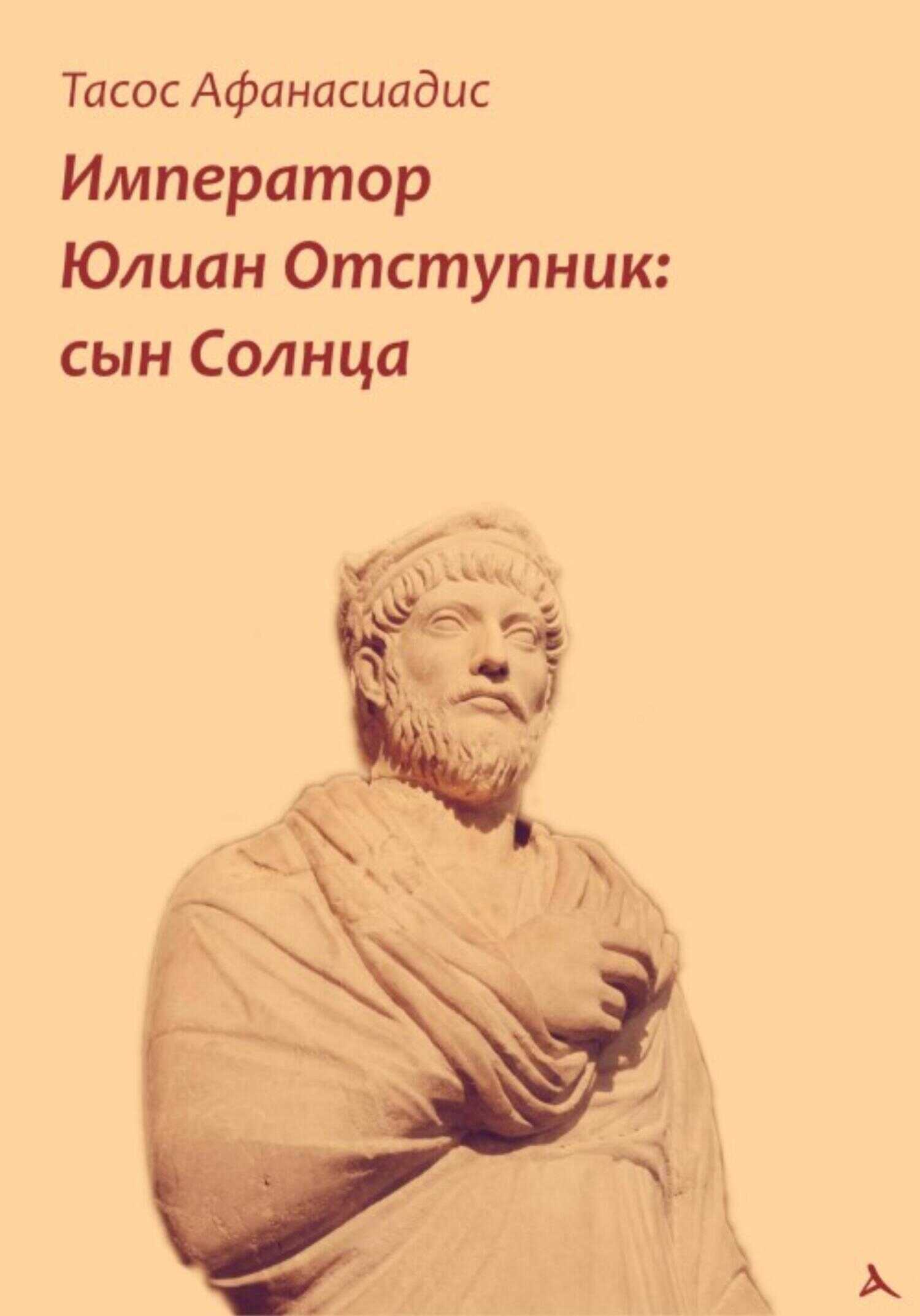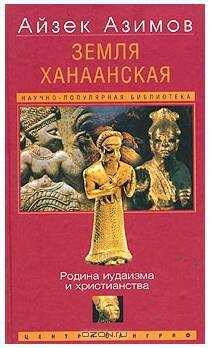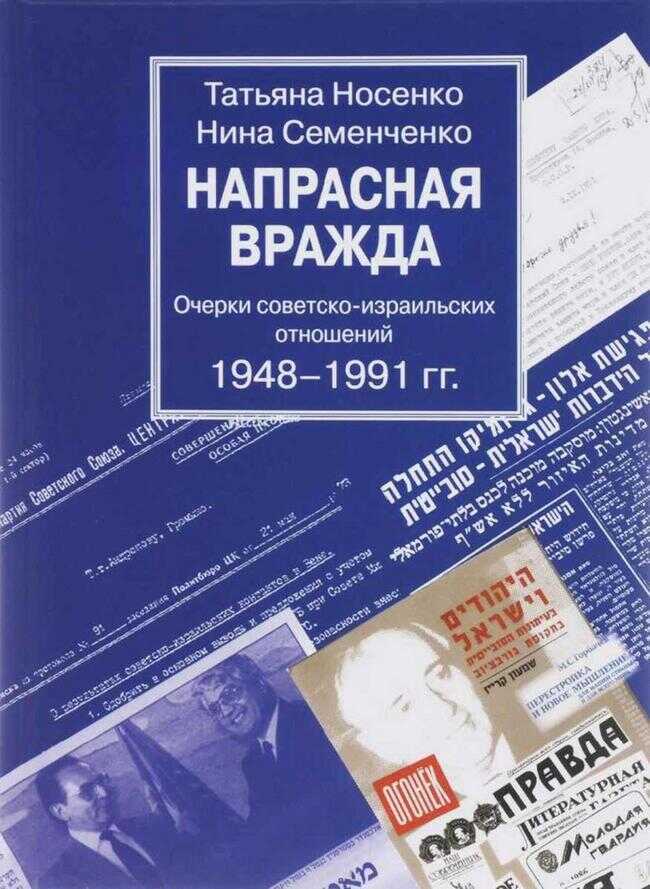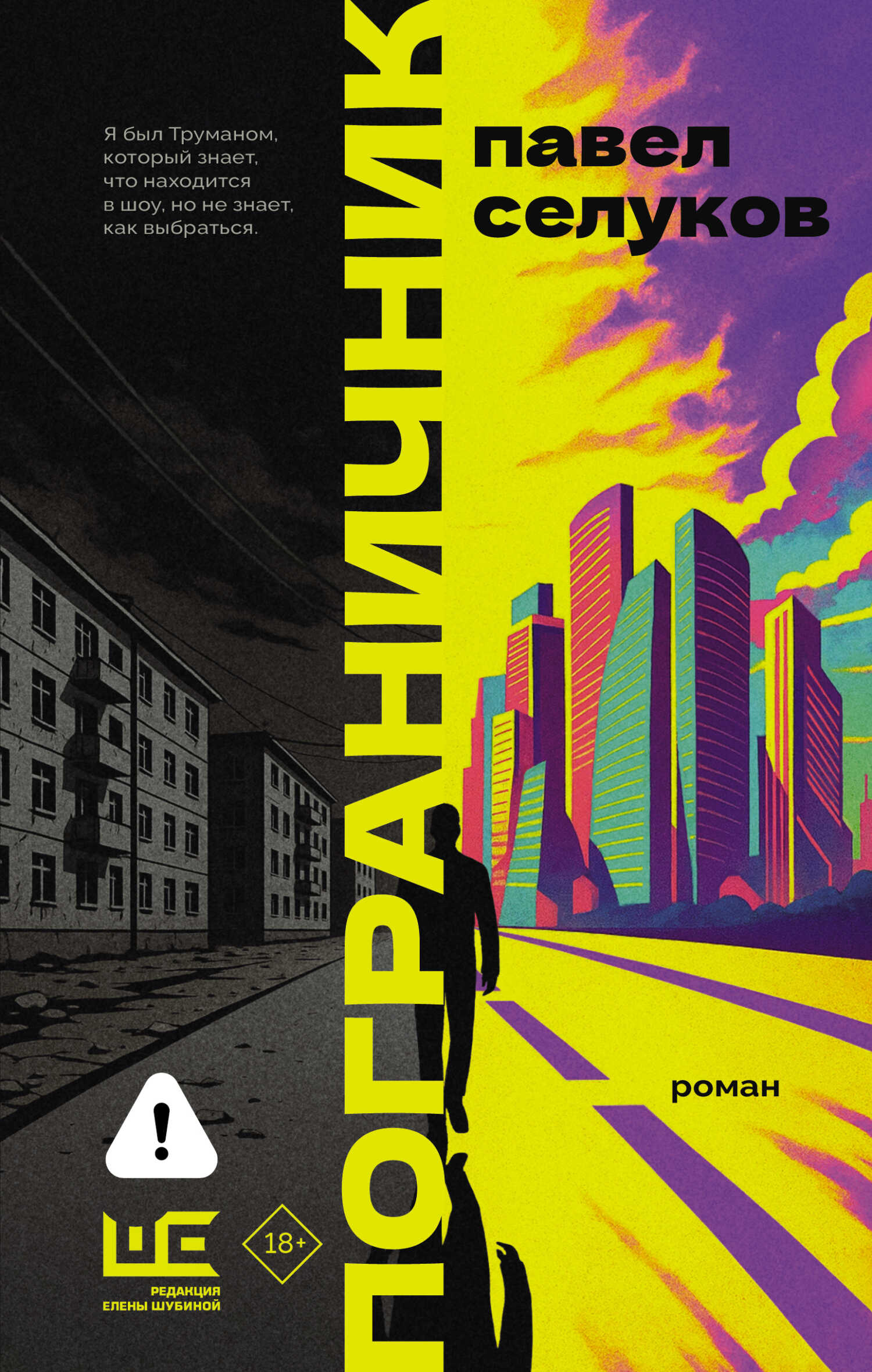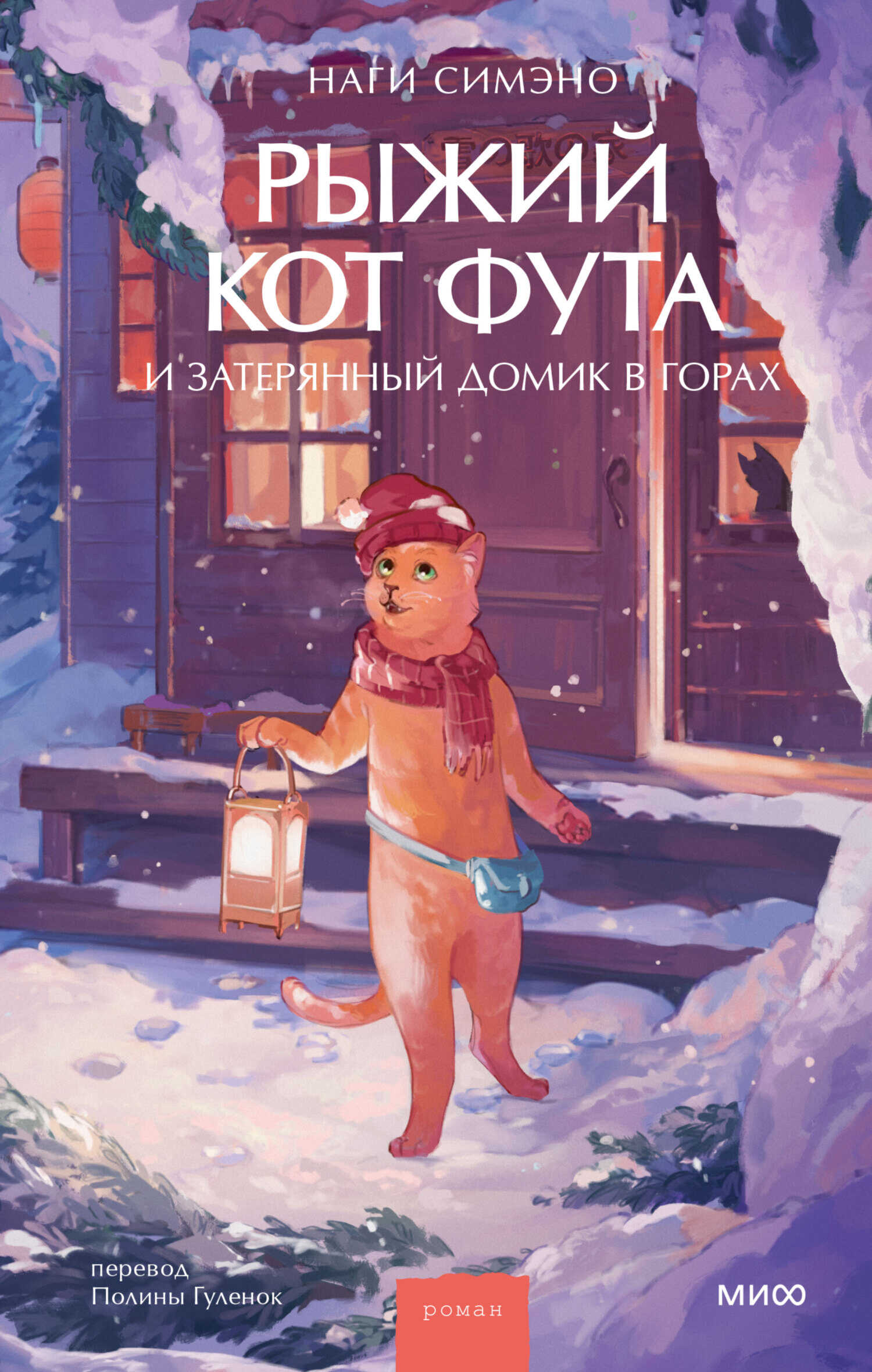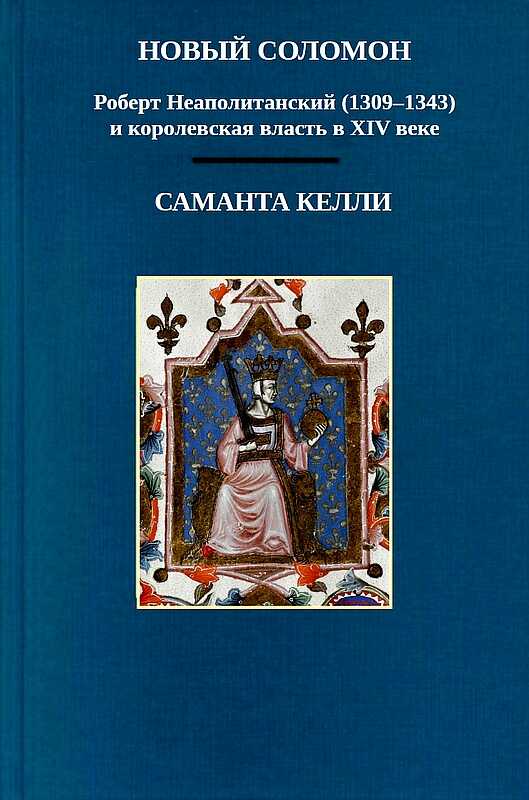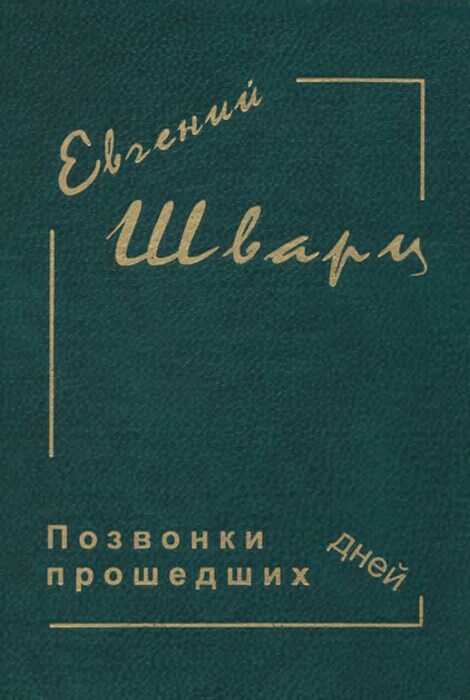Ознакомительная версия. Доступно 2 страниц из 13
I. 19-й день 7-й луны 5-го года Канко [1008 г.]
Дыхание осени все ближе, и не высказать словом красоту дворца Цутимикадо. Крона каждого дерева у озера и малая травинка у ручья разнятся цветом под закатным небом, и голоса, безостановочно твердящие сутры, трогают сердце больше обычного. Веет прохладой, голоса перемешиваются с бесконечным журчанием ночь напролет.
Государыня прилегла – прислушивается к болтовне придворных дам; кажется, что-то гнетет ее, но она таит свои заботы. Не хочу лишний раз превозносить ее, но как все-таки она умеет утешить разочарованное сердце – так, что забываешь о несчастьях. Ах, если бы только я искала покровительства и службы у нее во времена более давние...
Ночь на исходе, луна окутана облаками, тени деревьев черны, но уже слышны голоса: «Пора закрыть ставни!», «Но служанки еще не пришли!», «Эй, кто-нибудь, закройте ставни!» И тут раздается звон колокола – настает время заутрени. В череде монахов каждый старается переусердствовать другого; голоса резки и прекрасны, слышимы далеко и близко.
Настоятель храма Каннонъин возглавляет шествие из двадцати монахов, направляющихся с молитвой из восточного крыла. Они бормочут заклинания; гулкую поступь на мосту не спутаешь ни с чем. Я настолько увлечена, что мне ясно видится, как настоятели храмов Хоссёдзи и Дзёдодзи – оба в парадных одеждах – расходятся через изящные китайские мостики в свои скрытые листвой деревьев покои, что находятся возле конюшни и библиотеки. Вижу и как монах Сайги [983—1047] преклонил колени перед статуей будды Дайитоку.
Слуги уже здесь. Наступает утро.
Выглядываю из комнаты и в конце коридора вижу сад: туман еще не рассеялся и на листьях лежит утренняя роса, но Митинага уже на ногах и велит слугам очистить ручей от сора. Сломив цветок патринии из густых зарослей к югу от моста, он просовывает его мне в окно поверх занавески.
– А где же стихи? – спрашивает он.
Он – прекрасен, а я чувствую себя так неловко – лицо мое заспанно. Пользуясь просьбой, скрываюсь в глубине комнаты – ведь тушечница моя там.
И вот –
Увидела цветок патринии,
И знаю я теперь:
Роса способна
Обижать[1]
– О, как быстро! – говорит Митинага с улыбкой и просит тушечницу.
Прозрачная роса
Не может обижать.
Патриния себя окрашивает
Лишь цветом,
Которым пожелает.
Тихим вечером, когда я беседовала с госпожой Сайсё[2], старший сын Митинага – Ёримити [992—1074] —приподнял край бамбуковой шторы и сел на пороге. Выглядит он намного старше своих лет, и жесты его благородны. «Так трудно иметь дело с женщинами», – заводит он задушевный разговор о любви, и тогда понимаешь, как несправедливы те, кто называет его ребенком, а уж как он красив – краснеешь от смущения. Разговор еще не окончен, но он внезапно уходит, промолвив только: «В полях цветов патринии с избытком»[3], заставляя вспомнить о герое повести, которым так восхищаются.
Как все-таки странно, что такие мелочи вдруг приходят на память, а то, что волновало когда-то, с годами забывается.
V. Последняя декада 7-й луны
В тот день, когда управитель земли Харима устроил пир – в наказание за проигрыш в го[4],—я отлучилась домой. Позднее мне показывали столик, изготовленный по этому случаю. Он был замечательно красив – ножки в виде цветов, на столешнице изображены берег и море, на котором начертано:
Камушек, найденный
На берегу Сирара,
Что в земле Ки, –
Вырастет он
До великой скалы.
И веера у женщин в тот день тоже были очень красивы.
VI. После 20-го дня 8-й луны
После того как миновал 20-й день 8-й луны, во дворец стали собираться и высшие придворные, и люди рангом пониже – все те, чье присутствие почиталось необходимым. Ночами они располагались на мосту или же на веранде в восточном крыле, беспорядочно музицируя до рассвета. Молодые придворные, не слишком искусные в игре на кото[5] и флейте, соревновались в умении возглашать сутры или же распевали новые песенки, что вполне соответствовало обстоятельствам.
Однажды вечером управляющий дворцом – Таданобу, Левый советник в чине тюдзе – Цунэфуса, начальник охраны Норисада и управитель земли Мино в чине сесе – Наримаса – собирались помузицировать вместе. Но до настоящего представления не дошло, ибо Митинага счел эту мысль неподходящей.
Те из дам, кто покинул службу у государыни еще несколько лет назад ради того, чтобы жить дома, жалели о том и прибывали во дворец. В этой суете мы совсем лишились покоя.
26-го дня приготовление благовоний было закончено и государыня стала раздавать их придворным дамам. Собрались все те, кто участвовал в подготовке, а их оказалось немало.
Возвращаясь от государыни, я заглянула к госпоже Сайсё[6] и обнаружила что она заснула. Голова ее покоилась на ящике с письменными принадлежностями а лицом она уткнулась в многослойные одежды цвета «хаги»[7] и «лиловый сад»[8]. А поверх всего – малиновая накидка из необычайно гладкого шелка. Словом, она была прекрасна.
Мне подумалось, что Сайсё похожа на запечатленную картиной принцессу и я потянула за рукав, закрывавший ее лицо.
– Вы как будто пришли из сказки! – сказала я.
Она открыла глаза.
– Что с вами? Нельзя же будить так безжалостно! – отвечала она, слегка приподнявшись.
Румянец, заливший ее щеки, был восхитителен. Случается ведь и так – человек красивый покажется порой еще прекраснее.
В этот день Хёбу[9] принесла мне ткань, пахнущую цветами хризантемы. «Ее превосходительство супруга Митинага послала ее вам – отпугнуть старость, чтобы она никогда не настигла вас!»[10]
Я совсем уже собиралась отослать подарок обратно и даже сочинила стихотворение:
Чтобы вернуть
Младые годы, коснулась
Рукавом цветов в росе.
Но уступаю вечность
Владычице цветов.
Тут мне, однако, сказали, что ее превосходительство уже вернулась к себе, и я оставила подарок у себя.
В этот вечер я прислуживала государыне. Лунная ночь была прекрасна. Косёсё[9] и Дайнагон[9] сидели на веранде, и подолы их нарядов высовывались из-под бамбуковой шторы. Вынесли курильню, чтобы государыня могла опробовать благовония, приготовленные накануне.
Мы говорили о том, как красив сад, как долго не трогает багрянцем листья дикого винограда, но государыня казалась еще более печальной. Настало время вечерней службы. Государыня никак не могла успокоиться, и мы переместились к монахам.
Кто-то позвал меня, я вернулась к себе. Хотела только прилечь ненадолго, но тут меня сморило. Пробудилась же среди ночи от шума и криков.
Еще не наступил рассвет 10-го дня, как покои государыни уже преобразились, а сама она перебралась на помост, закрытый белыми занавесками. Сам Митинага, его сыновья, придворные четвертого и пятого рангов громко переговаривались, развешивая их, внося матрасы и подушки. Было очень шумно.
Весь день государыня не могла найти себе места – то вставала, то снова ложилась. Громко читались бесконечные заклинания, призванные оборонить от злых духов. Вдобавок к монахам, что находились при государыне последние месяцы, во дворец призвали всех отшельников из окрестных горных храмов, и я представляла себе, как Будды всех трех миров слетаются на их зов. Пригласили и всех заклинателей, каких только можно было сыскать в этом мире, и, наверное, ни один из сонма богов не остался глух к их молитвам. Всю ночь шумели гонцы, отправлявшиеся с приношениями в храмы, где читались сутры.
С восточной стороны помоста собрались местные придворные дамы. С западной же находились заклинательницы, каждая из которых была отгорожена ширмой и занавеской при входе. Подле каждой из них сидел отшельник, возносивший молитву. К югу расположились рядком главные настоятели и настоятели храмов.
Они призывали Фудо Мёо[11]. Их охрипшие от молитвы голоса сливались в торжественный гул. В узком пространстве к северу, отсеченном от помоста раздвижной перегородкой, сгрудились люди, коих я потом насчитала более сорока. От тесноты они не могли шелохнуться и не помнили себя от возбуждения. Для тех же, кто прибыл из дому позже, места и вовсе не нашлось. Не разобрать было, где чей подол или рукав. Дамы пожилые между делом всхлипывали украдкой.
Вечером 11-го дня две раздвижные перегородки к северу от помоста убрали и государыня переместилась во внутреннюю галерею. Поскольку бамбуковые шторы повесить было нельзя, пришлось отгораживаться многочисленными занавесками. Архиепископ Сёсан, епископы Дзёдзё и Сайсин возносили молитвы. Епископ Ингэн, добавив необходимые благопожелания к молитве, составленной накануне Митинага, торжественно возглашал ее – так, что слова западали в душу, проникали в сердце. А когда сам Митинага присоединился к нему, то голоса зазвучали так мощно, что все уверовали: роды окончатся благополучно. Тем не менее все были взволнованы, и никто не мог унять слез. И хоть говорили друг другу, что слезы – предзнаменование дурное, сдержаться не было сил.
Ознакомительная версия. Доступно 2 страниц из 13