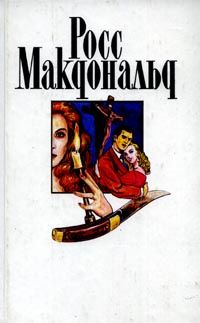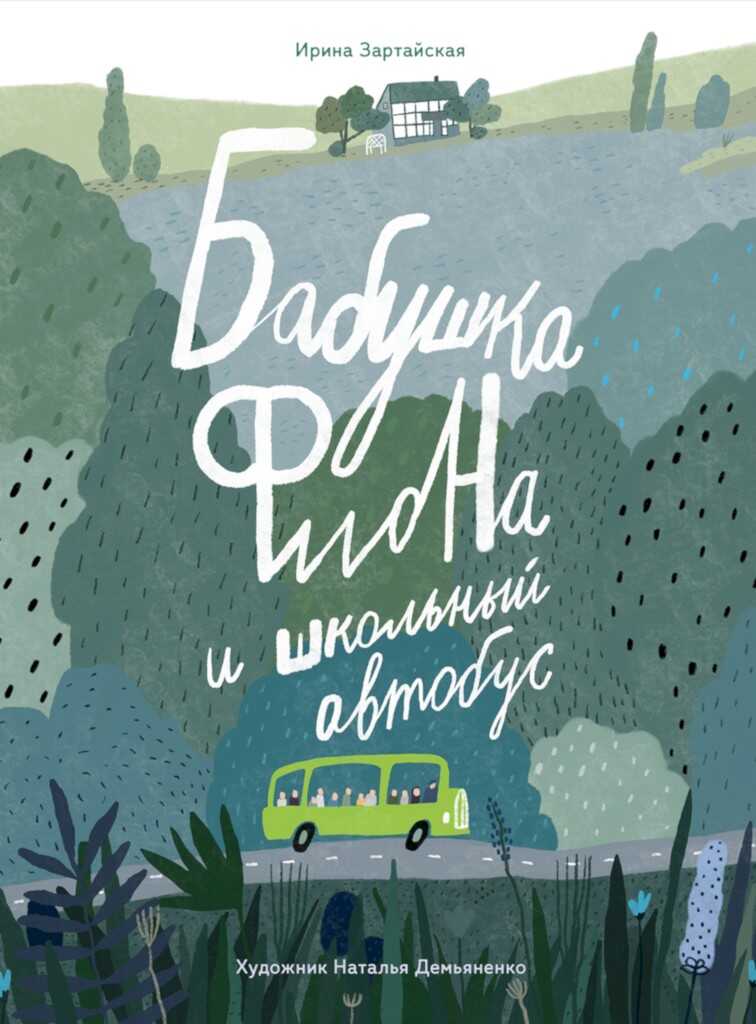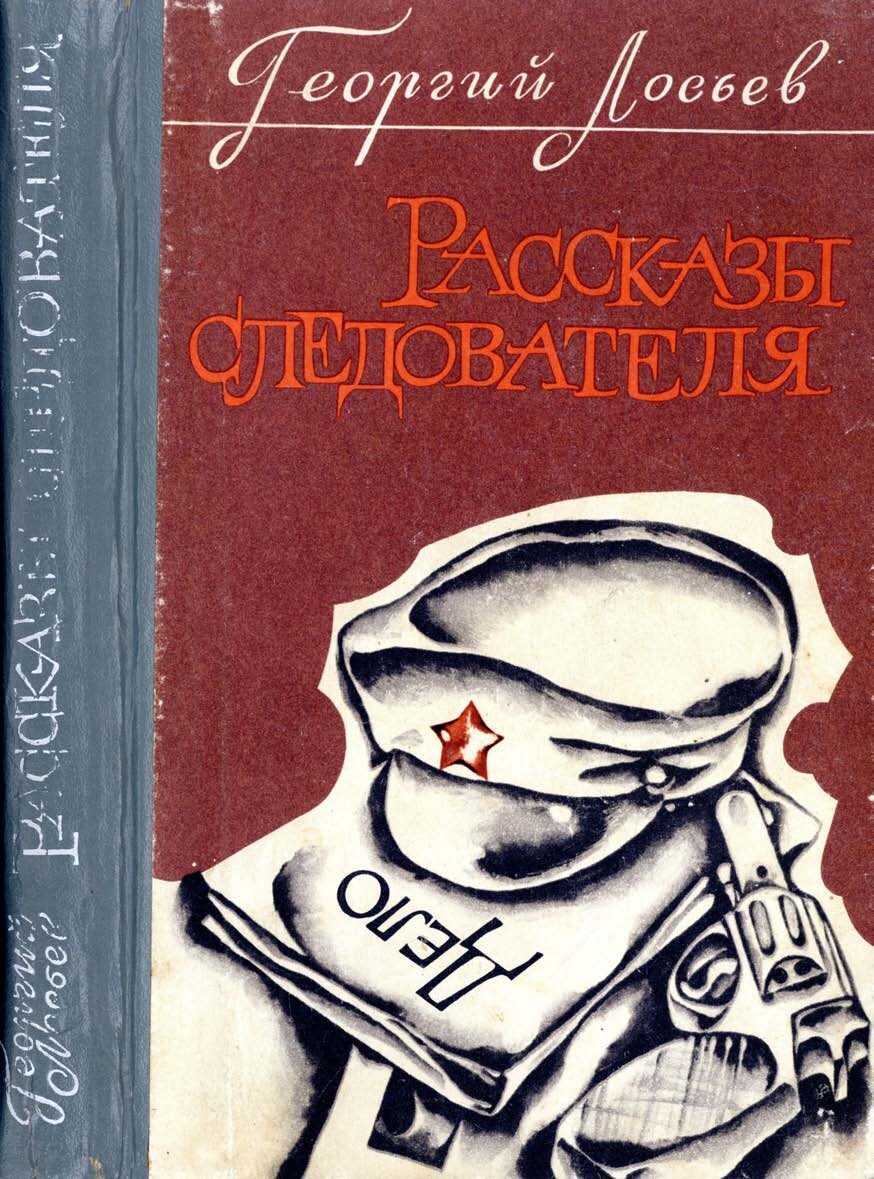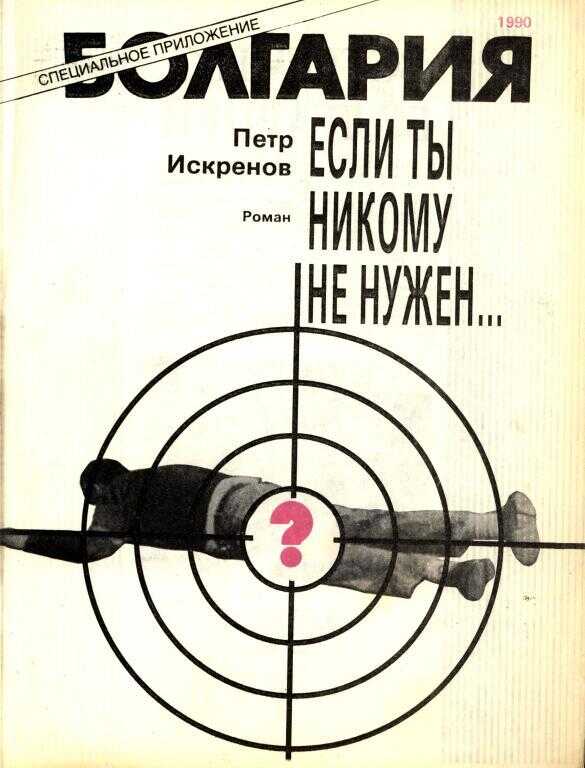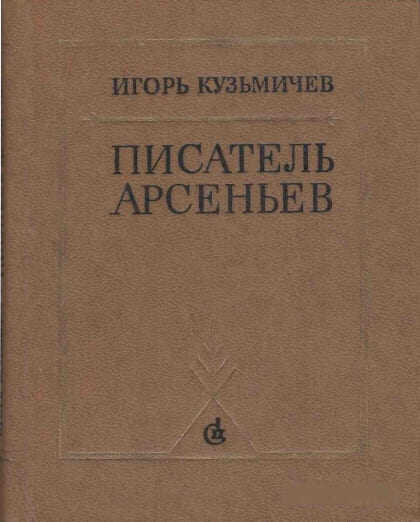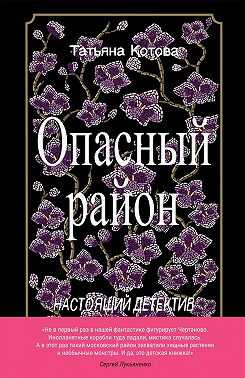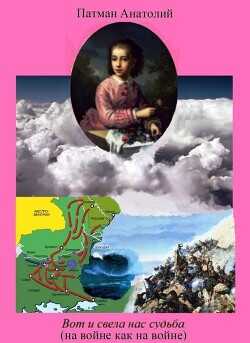Нельзя. Он против. Он не может допустить, чтобы частные лица. Не может. Тем более известны отдельные случаи, когда вследствие попустительства заведующего гаражом рабочие заводили частные автомашины при помощи похоронного транспорта.
— Неужели заводили?
— Представьте себе такое кощунство!
Да. С бюро похоронных процессий у меня нелады. Придется ждать официального случая. Ибо Николай Петрович начеку.
— Зря звонили, — говорит Генка. — Отрезали себе дорогу. Мы бы и без него все сделали. Надо было вам с завгаром туда-сюда…
— Но ты же мне сам велел звонить, Гена!
— Велел-велел… Что у вас — своей головы нет? Не надо было звонить.
— Да, Гена, теперь я вижу, что наделал делов этим звонком. Теперь ворота вашего гаража будут закрыты для подобных случаев. Николай Петрович не позволит.
Генка перебивает меня удивленно:
— Почему закрыты? Это же он только вам не велел. А про других же он не говорил? Другие же ему не звонили!.. Это вы только себе делов наделали…
Филька вскакивает и делает несколько заячьих прыжков. Геннадий Степанович замечает его недостаток:
— Как же он будет у вас жениться при таких ногах? Эх ты, калека…
Я не отвечаю. Мне сейчас не до Филькиной женитьбы. Я думаю о том, что слишком высоко забрался своим телефонным звонком.
— За углом, в Малом Страстотерпцевом есть гараж, — размышляет Генка. — Мы там с Борисом по совместительству.
— Так что же, Гена, звонить новому Николаю Петровичу? А может, не звонить?
Генка отвечает косвенно:
— Там у них жестянщик есть. Кузьмич. Первый мастер. Торопиться не любит, сделать любит.
Генка говорит уважительно. Он поджимает губы, прикрывает глаза и, покачивая головой, подтверждает, что Кузьмич действительно первый мастер.
— Так как, Гена, звонить или не звонить?
Он ухмыляется нерешительно:
— Дело ваше… Вам же автомобиль делать, вы и думайте. Я вздохнул:
— Если я ему позвоню, а он откажет? Собственно, вы от этого не пострадаете, поскольку он откажет только мне. Часть меньше целого. Я — меньше стада автомобилистов. Стадо не пострадает от выбраковки одной овцы. Или барана. Но зато если он разрешит — я буду ходить, расправив плечи… Гена, скажи мне как философ философу: стоит риска желание ходить расправив плечи или не стоит?
Генка застенчиво улыбается:
— Тоже скажете… Звоните, может, повезет. Там завгар новый, еще пока непонятный…
Совершенно верно — главное, не тушеваться. Есть еще и другие Николаи Петровичи на земле. А пока они есть, мы не пропадем!.. В этом я убедился на следующий день.
Утром возле автомобиля возился парень, которого я где-то видел. Лицо его и повадка были мне знакомы. Он накачивал баллоны — резко и мощно, со всего маху. Вероятно, это и был Борис, служивший по совместительству в том благородном оазисе, где моему автомобилю предстояло ожить.
— Кто это вам мигалку удружил? — спросил он, не отрываясь от насоса. — Рвут, паразиты, с мясом, воровать культурно не научились! Елкин корень!
Ну, конечно! Я сразу узнал его. Это же тот самый прохожий-энтузиаст, который помогал продавщице бить посуду!
— Глядите! — сказал он, распрямляясь. — Будто отвертки нету! Шакалы!
Действительно, задний фонарь сперли технически малограмотно. Это могло хоть кого удручить.
— Не тушуйся, Борис, — сказал Генка, — теперь одно к одному.
— Я не тушуюсь, — ответил Борис, — но кто ж так фонари снимает? Рядом возник Миша Архангел и тоже встрял в разговор:
— Помыть не надо?
Борис глянул на него жестко:
— Я тебя сейчас помою! Ключом по кумполу, алкаш!
Мы выкатились на нашу улицу, и улица остановилась, понимая всю важность нашей миссии. Улица ждала не шевелясь, пока мы по ней проедем. Мы доехали до пивной палатки, свернули в переулок, потом в другой, потом еще в один и уперлись в тупичок, оканчивающийся большими зелеными воротами с проходной будкой. Над воротами во всю их длину пламенела вывеска с накладными буквами, выкрашенными алой люминесцентной краской: «Спасибо за честный труд!»
Это и был гараж.
Борис выскочил, хлопнул дверцей и вошел в проходную.
Ворота медленно поплыли на смазанных петлях, проломившись посередине. Они отступали перед нами гостеприимно, законно, не таясь.
Николай Петрович разрешил.
Мы въехали во двор, и мой автомобиль остановился среди могучих грузовиков, как облезлая овечка среди стада носорогов. Носороги не пошевелились.
Вышел завгар — небольшой сухонький дядечка в кепке с пуговкой. На лице его, морщинистом и остроносом, не отражался ни один порок. Я вылез приветствовать его, как вассал приветствует суверена.
— М-да, — сказал суверен, оглядев овечку. И, еще раз оглядев, добавил: — Делов — будь здоров… К стенке ее…
И показав, к какой стенке, ушел в свою конторку…
Я был представлен Кузьмичу.
Он вышел из мастерской, держа в руках автогенную горелку. Немолодое, одутловатое, добродушное лицо Кузьмича туманилось легким налетом застенчивости. Беретик покрывал его большую голову, как крышечка. Он переложил горелку в левую руку, вытер правую о чистенький, стиранный-перестиранный комбинезон и протянул ее мне, почтительно наклонившись в такт рукопожатию. Движения его были мягки, медлительны и приятны.
Он молча положил горелку на ящик с песком и стал исследовать автомобиль. Генкины легионеры ему мешали, и он без слов отстранил их круглым плечом, не глядя на них и не интересуясь их чувствами.
Кузьмич был немногословен. Он предпочитал молчать. Произносил слова он чрезвычайно редко, но скороговоркой, как бы торопясь от них избавиться. Я ходил за Кузьмичом как опытный проситель, отличающийся робостью и послушанием, а потому получающий кое-какие блага на этом свете.
— Порожки надо, надо порожки, — проговорил Кузьмич и стал пробовать двери.
Видимо, двери его устраивали, о них он не сказал ничего. И когда я уже собрался начать переговоры, Кузьмич проговорил:
— Надо варить дно, варить дно надо…
— Кузьмич, — сказал я, — сделайте, пожалуйста, все что нужно.
Он не ответил. Он отстегнул английскую булавку на кармане комбинезона и вытащил аккуратный листок наждачной бумаги. Булавку он застегнул снова, а наждаком стал протирать места кузова, вызывающие его подозрение. Я не смел задавать ему вопросов. Я даже отступил к ящику с песком и присел на него, наблюдая за действиями Кузьмича.
Подошел Генка, светясь улыбкой:
— От имени рабочего класса! На бутылку, чтоб поехало. Аванс. Неожиданно Кузьмич проговорил:
— Трещите, как сороки, как сороки, трещите…
— Кузьмич, надо выпить! — нахально веселился Генка.
— Работать надо, а не пить, не пить, а работать. Генка смутился.
— Геннадий Степаныч, — сказал я. — Кузьмич прав.
— Рабочий класс, рабочий класс, — пробурчал Кузьмич. — Трепачи, дерьмо…
Генка толкнул меня локтем в бок и сказал не то с уважением, не то с насмешкой:
— Мастер…
И ушел.
Кузьмич снова расстегнул булавку, вытащил из кармана мелок и стал рисовать на кузове.
— Красить им не давайте, не давайте им красить… Герасимыч покрасит, Герасимыч. По-быстрому дешево стоит, да не быстро ходит. Сам с ним поговорю, сам…
Герасимыч, видимо, был профессором-консультантом в этой поликлинике. Видимо, попасть к нему на прием было нелегко. Мне сказали, что он красил машину самому Николаю Петровичу, и я был тронут словами Кузьмича и почувствовал признательность больного, который наконец достиг радостной перспективы быть зарезанным не простым ординатором, а редкой знаменитостью.
— Хороший мастер? — бестактно спросил я Кузьмича, стараясь скрыть ликование.
И тут Кузьмич преобразился. Он выпрямился, в первый раз улыбнулся и без скороговорки, а певучим бабьим голосом ответил:
— Ну что-о-о вы! Каретник!
И слово «каретник», оставшееся от далеких доавтомобильных времен, от времен деревянных спиц и проселочных дорог, от времен мастеровой горделивости и приятных окошек с бальзамином и занавесочками, — это слово вдруг повеяло на меня таким тончайшим цеховым ароматом, что на душе моей стало спокойно и естественно, как после причастия.
— Ка-а-аретник! — снова пропел Кузьмич, и я почувствовал, что и Герасимыч, видимо, называет Кузьмича не жестянщиком, как Генка, а именно каретником, когда сватает кому-нибудь его работу…
Потому что жестянщик и маляр — это совсем не то же самое, что каретник и каретник.
Карпухин осваивал профессию, которая называется пока еще неудобным словом «дизайнер». То есть он был специалистом по внешнему виду внутреннего содержания. Он со своей бригадой делал Яковлеву чайную по договору и сделал толково, с той долей модернизма, которая допускается уже повсеместно, вызывая, с одной стороны, некоторое смущение, а с другой — полное спокойствие за моральный облик. Он сделал чайную хорошо, с коваными рисунками церквушек, тракторов и оленей, с некрашеным деревом где надо, а где надо — с обнаженным кирпичом.