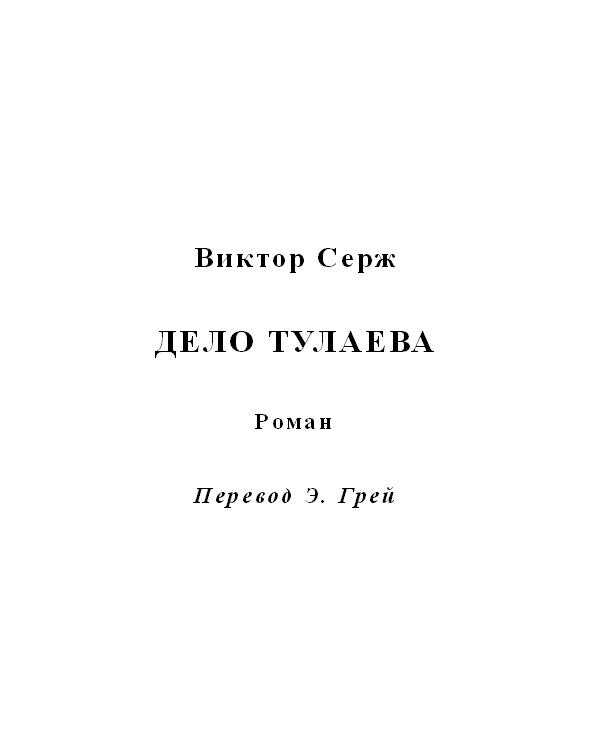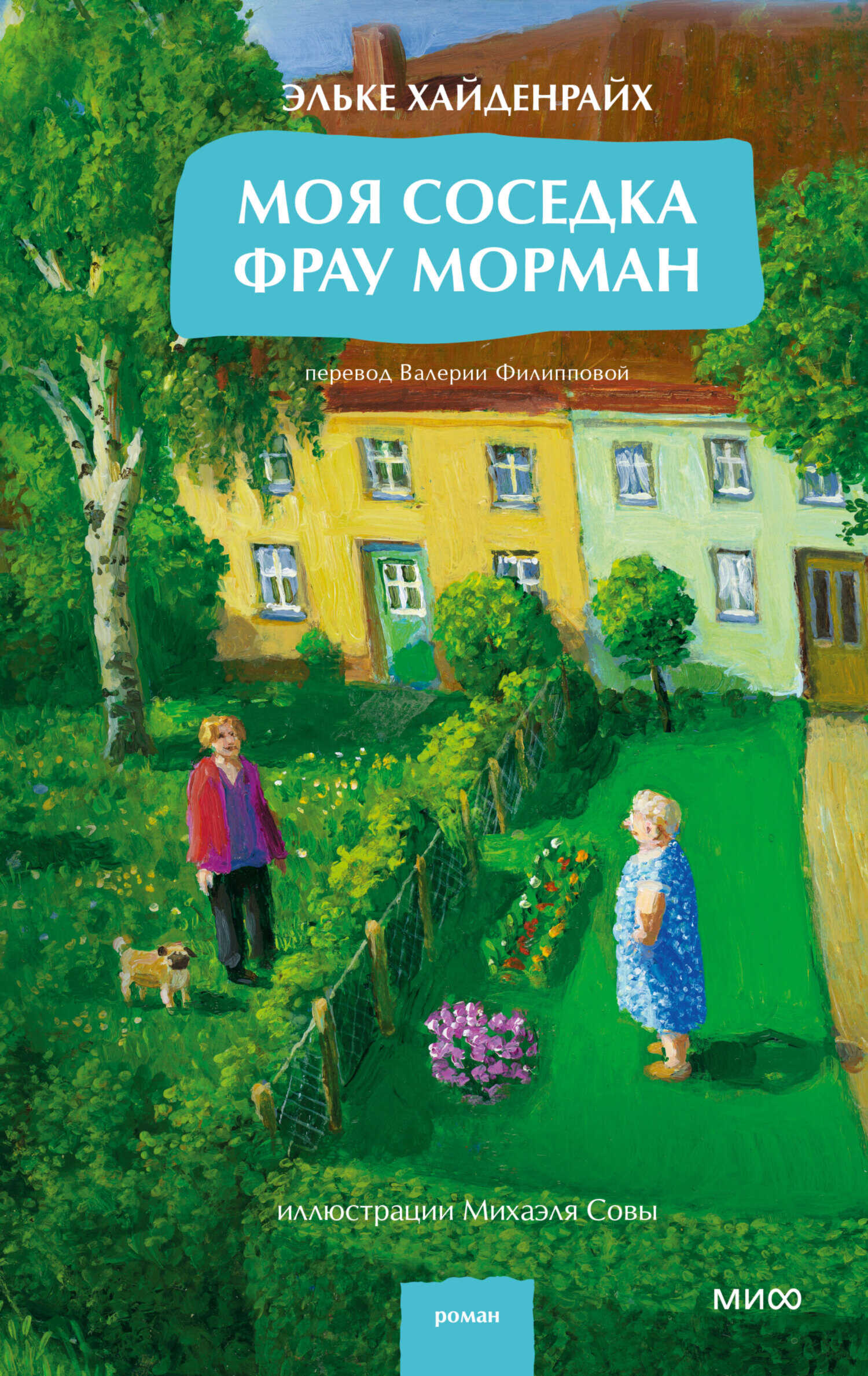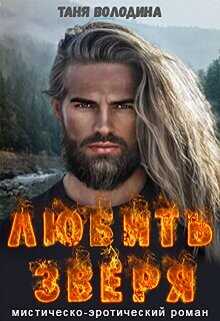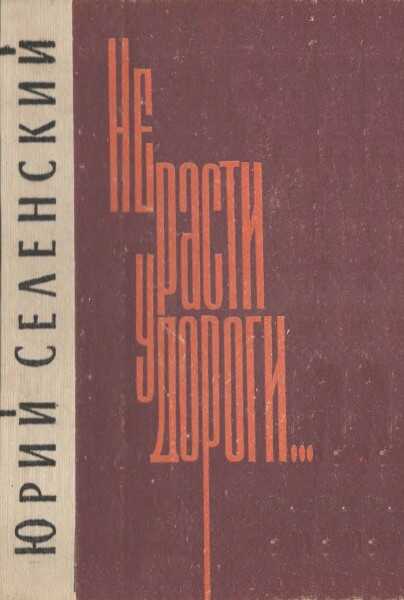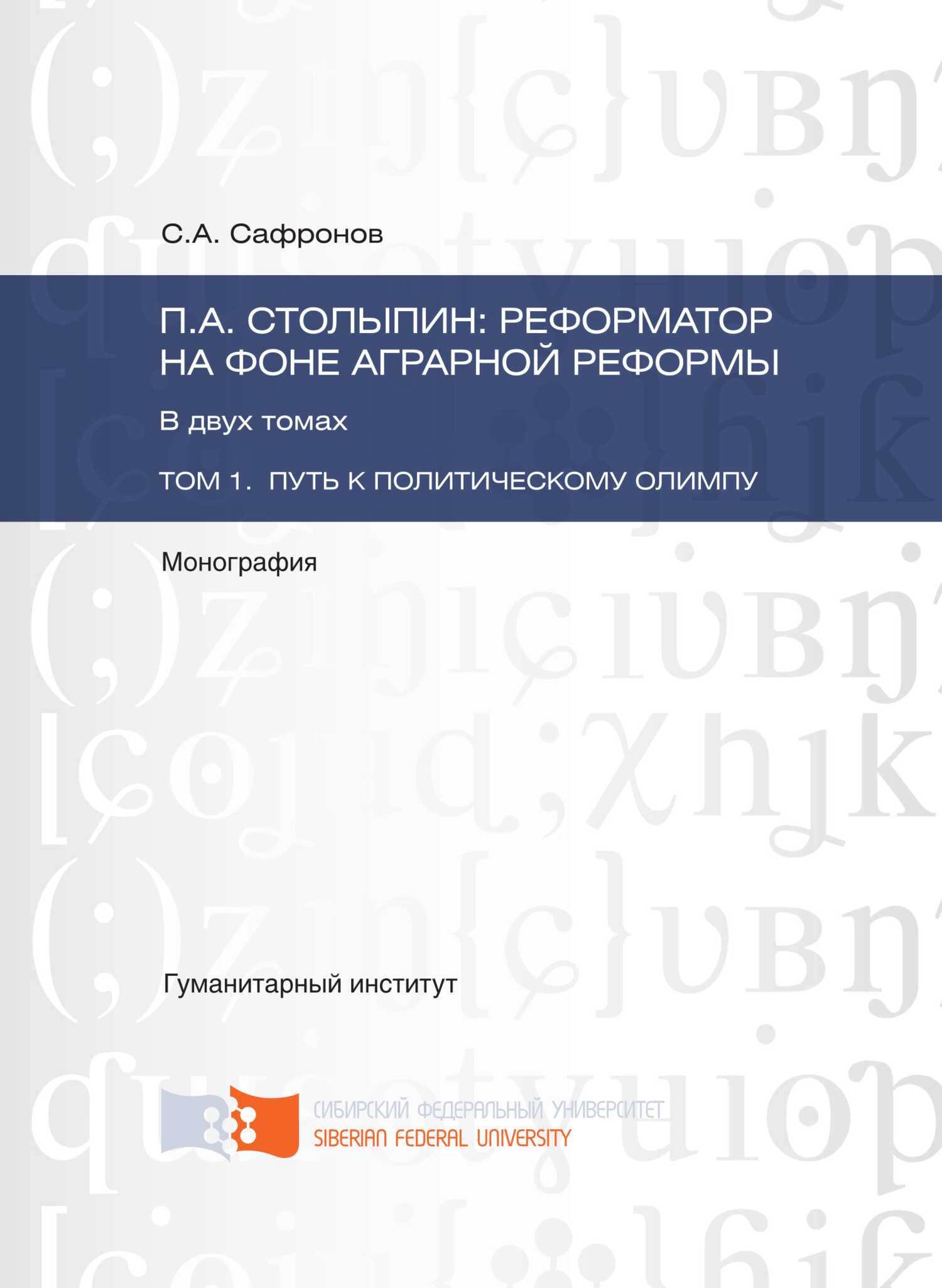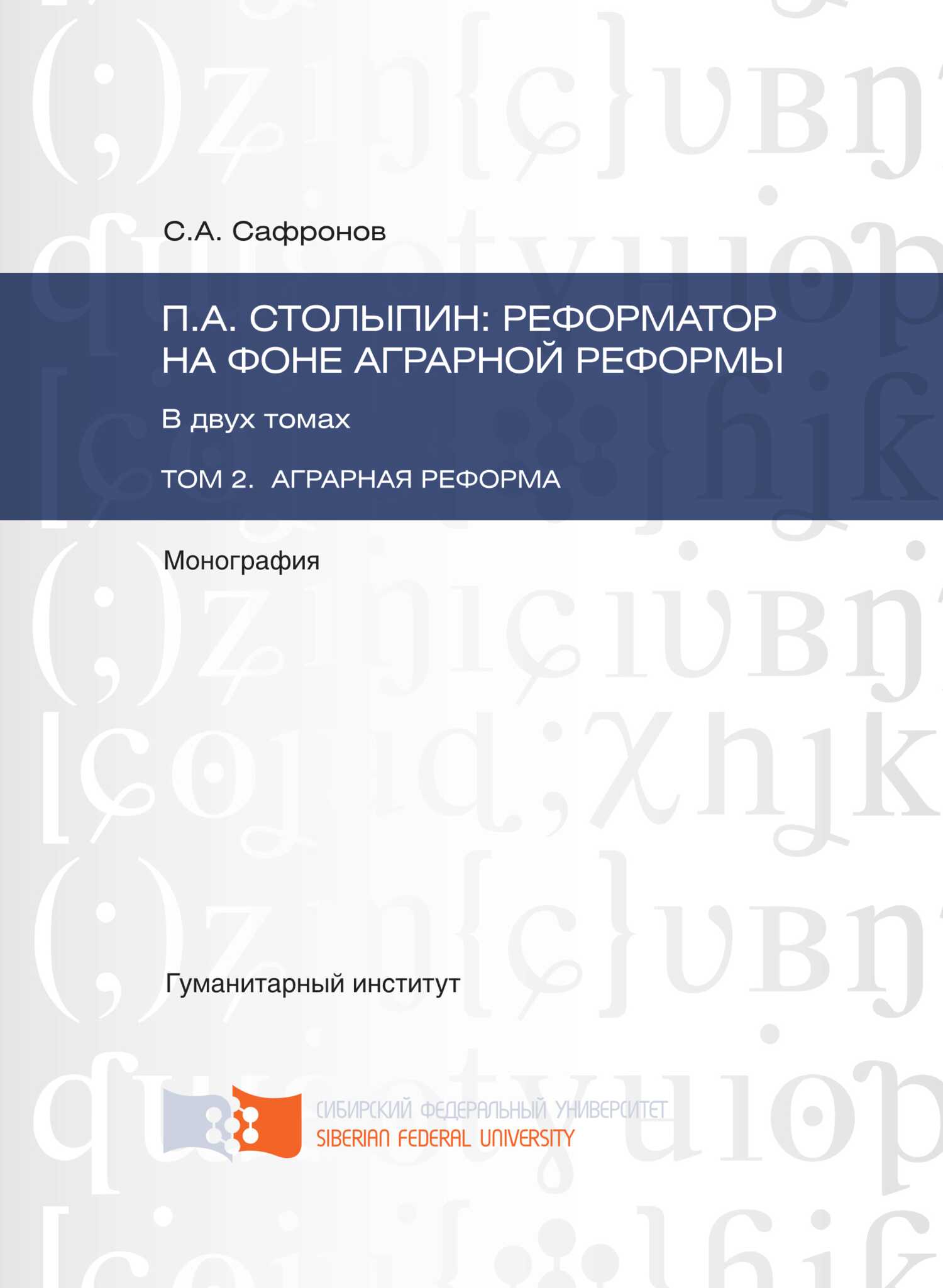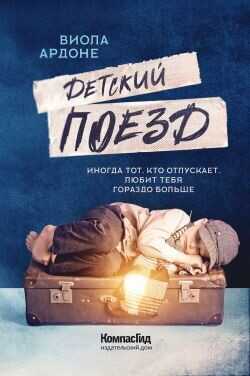честном слове – но я доволен.
– Влюблён?
– Ещё бы!
От Костиного смеха вздрогнула постель, дрогнул Ромашкин с головы до пят, содрогнулась фанерная перегородка; смех золотыми волнами раскатился по комнатушке.
– Не пугайся, приятель, я не пьян... Помнишь, я бросил работу в метро? Надоело мне рыть наподобие крота под московским асфальтом, между моргом и комсомольским бюро. Мне воздуху захотелось! Послал к чёрту ихнюю дисциплину. Мне дисциплины не занимать стать, она во мне самом. Уехал, значит. В Горьком поступил в автомобильный завод; семь часов в день стою у станка. Ходил смотреть, как выкатывали грузовики, блестящие, новенькие – ей-богу, это красивее, чище, чем рождение человека. И когда думал, что они созданы нашими руками, что, может, покатятся в Монголию, принесут угнетённым народам папиросы и ружья, – был счастлив и горд. Ну, ладно. Потом поссорился с техником: тот хотел, чтобы я после рабочего дня чистил набор инструментов. «С рабочими тоже надо считаться, – сказал я ему, – надо щадить их нервы и мускулы, ухаживать за ними, как за машиной». Сел в поезд и уехал, не то эти дураки записали бы меня в троцкисты: получил бы три года лагерей в Караганде – спасибо! Волгу видел, браток? Я работал на буксирном судне кочегаром, потом механиком; мы тащили баржи на буксире до Камы. Река полноводная, забываешь о городе, когда луна встаёт над лесами... В одной деревне в Коми я нашёл себе заместителя и нанялся в областной леспромхоз. «Согласен на любую работу, – сказал я тамошним бюрократам, – только как можно дальше, в самых глухих лесах». Им это понравилось. Назначили меня инспектором лесных сторожевых пунктов... Где-то на самом краю света, между Камой и Вычегдой, я открыл никому не ведомую деревню раскольников, убежавших от статистики: перепись населения они приняли за дьявольскую выдумку, вообразили, что опять отнимут у них землю, заберут мужчин на войну, заставят старух учиться грамоте, научат их дьявольской премудрости. По вечерам они читали Откровение... Они предложили мне остаться у них, и я чуть было не согласился – из-за одной красавицы... Хочешь, Ромашкин, поедем к ним жить? Только мне одному знакомы тропинки в лесах Сысольды; лесных зверей я не боюсь, научился обирать ульи диких пчёл, воровать их мед, умею ставить капканы для зайцев, расставлять сети в реке... Поедем со мной, Ромашкин, – там ты забудешь о книгах.
– Что ж, я согласен, – слабым голосом отозвался Ромашкин. Костин рассказ очаровал его, как сказка. Но Костя тут же разбил его мечту:
– Поздно, приятель. Для нас с тобой не существует ни Священного писания, ни Откровения святого Иоанна. Мы не знаем, когда придёт Страшный суд. Мы живём в эпоху железобетона.
– А что ж твоя любовь? – вспомнил Ромашкин. Ему было до странного хорошо.
– Я женился в колхозе, – сказал Костя. – Она...
Он взмахнул руками, чтобы выразить своё восхищение, но вдруг его руки застыли в воздухе, а потом бессильно опустились. Взгляд Кости случайно упал на длинную, слабую руку Ромашкина, лежавшую на газетном листе; средний палец указывал, казалось, на совершенно невероятный текст:
Убийство тов. Тулаева, члена ЦК... Признавшие себя виновными... Ершов, Макеев, Рублёв... расстреляны...
– Какая она из себя, Костя?
Костины зрачки сузились.
– Ромашкин, помнишь револьвер?
– Помню.
– Помнишь, как ты искал справедливость?
– Помню. Но с тех пор я много размышлял, Костя, и понял свою ошибку. Понял, что для справедливости ещё не наступило время. Мы должны работать, верить партии и иметь жалость. Раз нельзя нам быть справедливыми, надо жалеть людей.
У него на языке вертелся вопрос, который он не решился высказать вслух: «Что ты сделал с револьвером?»
Костя сердито возразил:
– А мне жалость ни к чему. Вот, пожалей-ка, если хочешь, этих трёх расстрелянных; только им ничего больше не нужно. (Он указал на газетную заметку.) Плевать мне на твою жалость – и у меня нет охоты жалеть тебя: ты того не стоишь. Может, это ты виноват в их преступлении. Или я – в твоем. Только тебе этого в жизни не понять. Ты невиновен, они невиновны...
Пожав плечами, он с усилием закончил:
– Я невиновен... Но кто же виноват?
– Я думаю, что виноваты они, раз их расстреляли, – пробормотал Ромашкин.
Костя так резко шагнул вперёд, что дрогнула перегородка. Разразился злым смехом:
– Ромашкин, ты молодчага! Позволь, я объясню тебе мою догадку: они, конечно, были виноваты, но сознались потому, что понимали вещи, нам с тобой недоступные. Ясно?
– Верно, так оно и есть, – серьёзно сказал Ромашкин. Костя нервно шагал от двери к окну.
– Я тут задыхаюсь, – сказал он. – Воздуха! Чего тут недостаёт? Всего. Ну, прощай, брат! Мы живём вроде как в бреду, верно?
– Да, да...
Ромашкин подумал, что сейчас опять останется один, и у него было жалкое, сморщенное лицо, увядшие веки, бесцветные волоски вокруг рта... Костя же подумал вслух: «Виноваты миллионы Ромашкиных, что живут на земле...»
– Что ты сказал?
– Ничего. Я несу чушь.
Какая-то пустота возникла вдруг между ними.
– У тебя слишком темно, Ромашкин. На, возьми! Он вынул из внутреннего кармана куртки завёрнутый в ситцевую тряпку квадратный предмет.
– Бери! Эту вещь я любил больше всего на свете – пока был один.
В руке Ромашкина оказалась миниатюра в рамке из чёрного дерева. В чёрном овале – чудесно живое женское лицо, спокойное, умное, озарённое внутренним светом. Ромашкин сказал с боязливым восхищением:
– Неужели вправду бывают такие лица? Как ты считаешь, Костя?
Костя сердито ответил:
– Живые лица ещё лучше. До свидания, приятель.
Он кубарем скатился с лестницы, точно слетел вниз, потом лёгким шагом бегуна пустился бежать по улице. В голове у него всё громче звенела тревога: «Но ведь это я... Это я...» Он бежал к дому, где спала Марья, так же быстро, как в ту уже далёкую морозную ночь, когда после внезапного взрыва в его руке распустился чёрный цветок, окаймлённый пламенем, а в темноте перекликались тревожные свистки милиционеров...
В семи комнатах коммунальной квартиры номер двенадцать ютились три семьи и три супружеские пары. В коридоре горела под самым потолком (чтобы её труднее было вывинтить) тусклая лампочка. Стены почернели от копоти. Швейная машина, цепью и висячим замком прикреплённая к тяжёлому сундуку, отражалась в треснувшем зеркале. В полутьме слышался многоголосый храп; в нём было что-то звериное. В конце коридора приоткрылась дверь уборной, мелькнула худая фигура в пижаме, тут же с грохотом задевшая какой-то железный предмет, – после чего этот человек (по-видимому, пьяный) отлетел к противоположной стене и стукнулся о дверь. В темноте послышались сердитые голоса: чей-то бас спросонья пробурчал: «Шш...», другой голос разразился руготней: «Чтоб тебя... хулиган паршивый!»