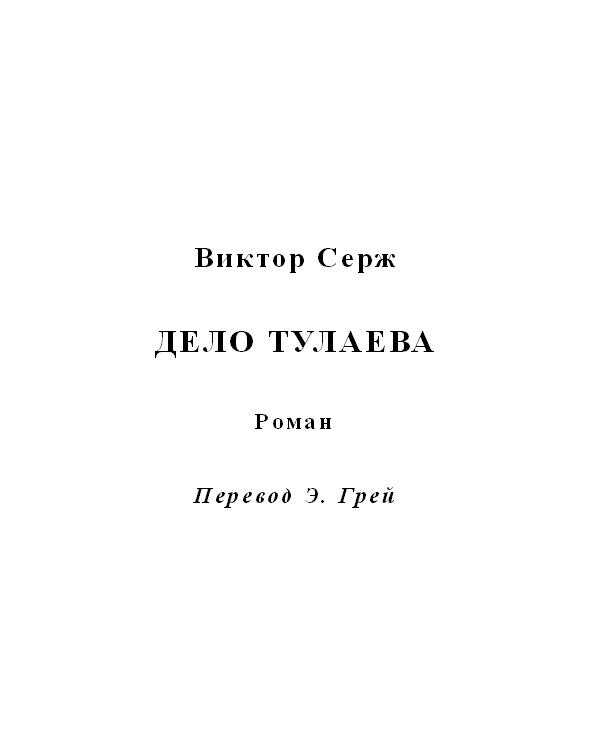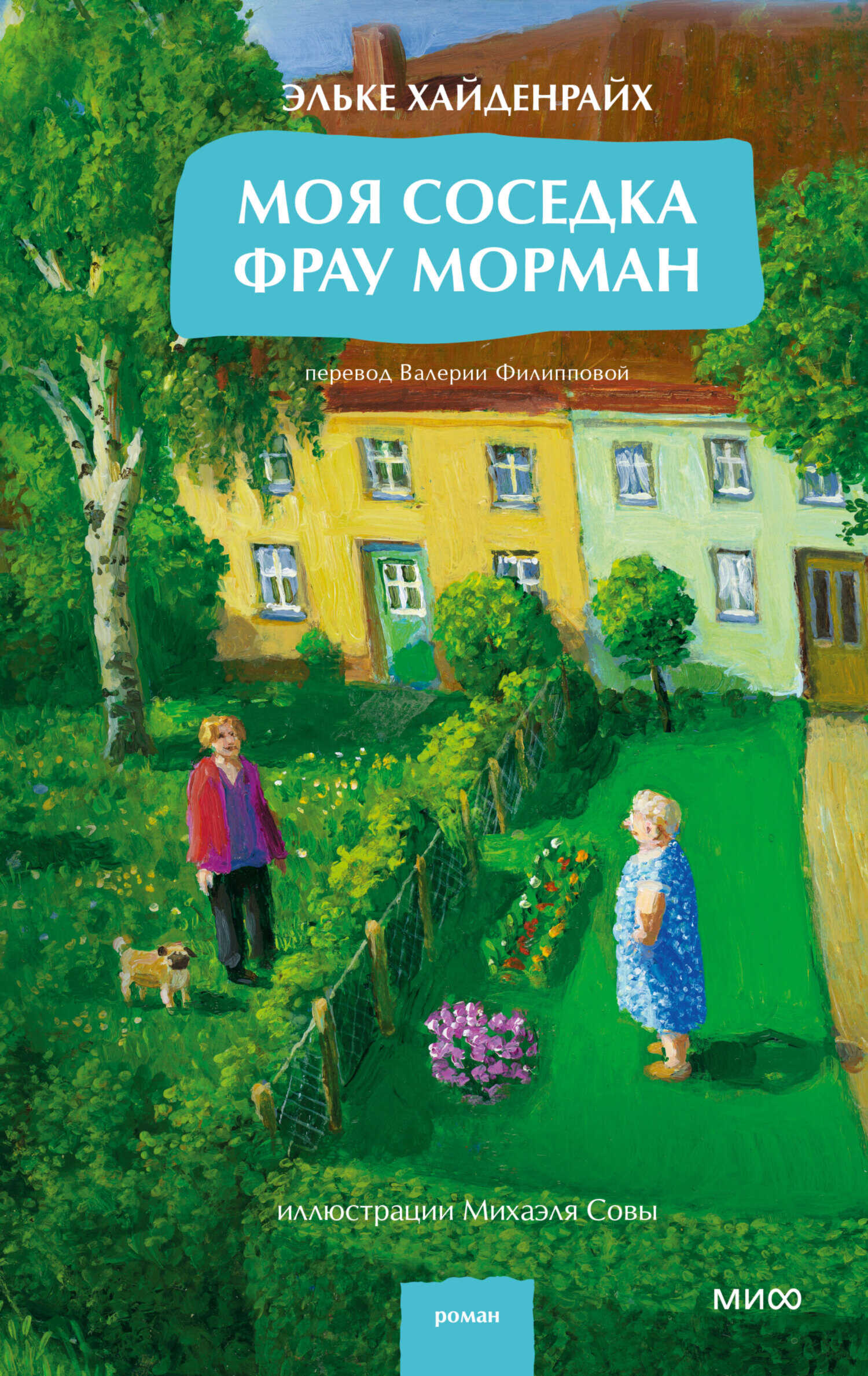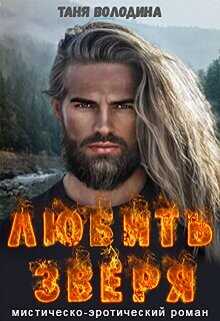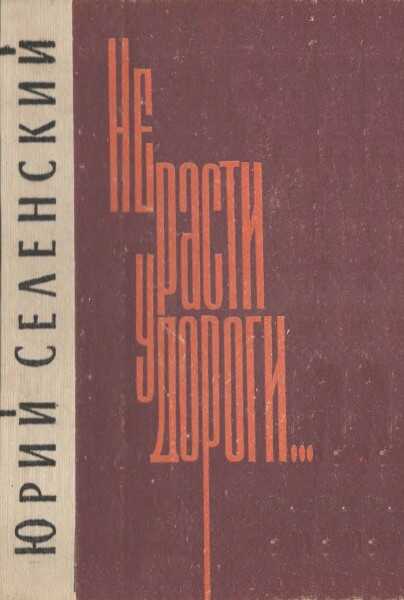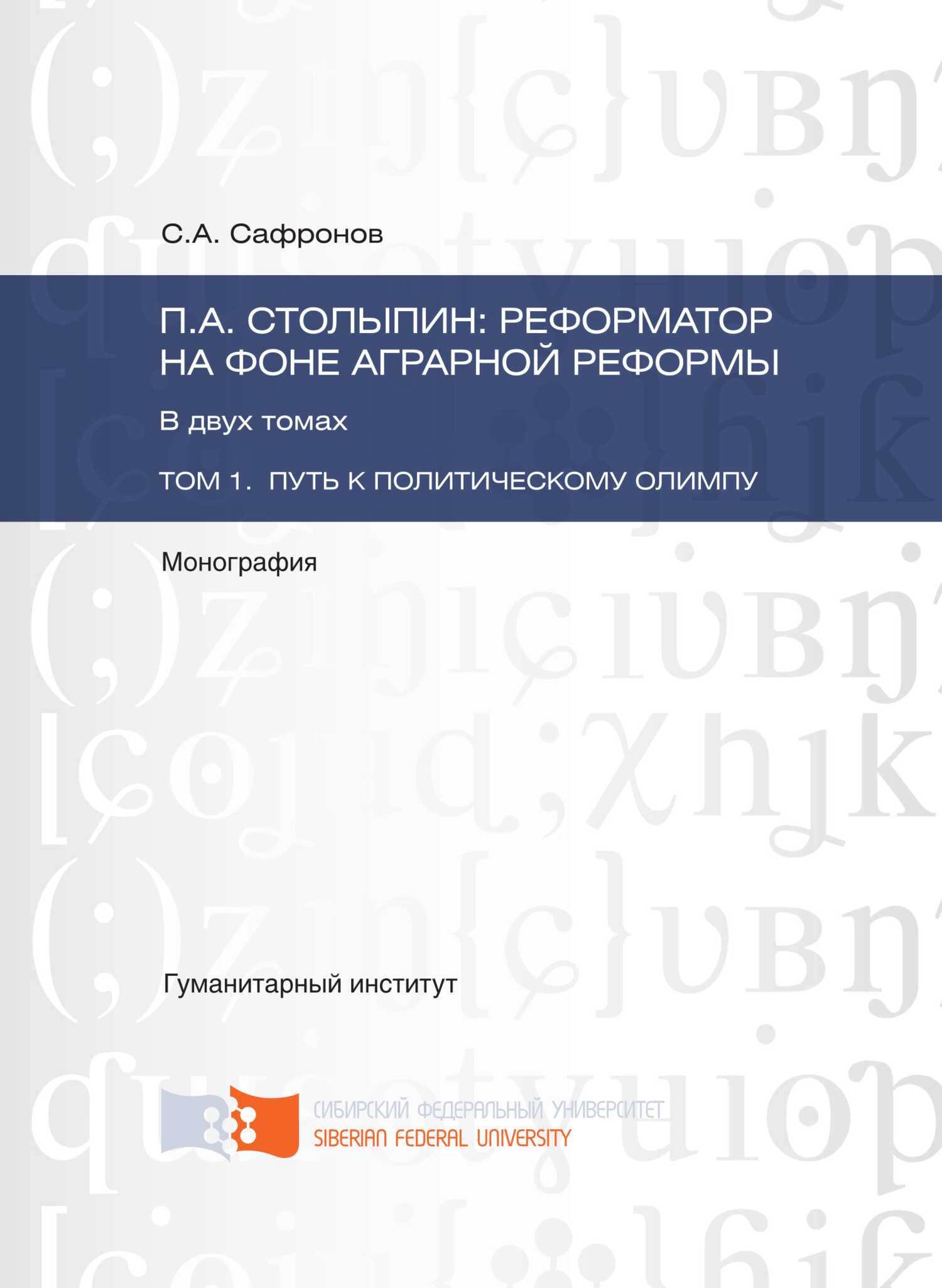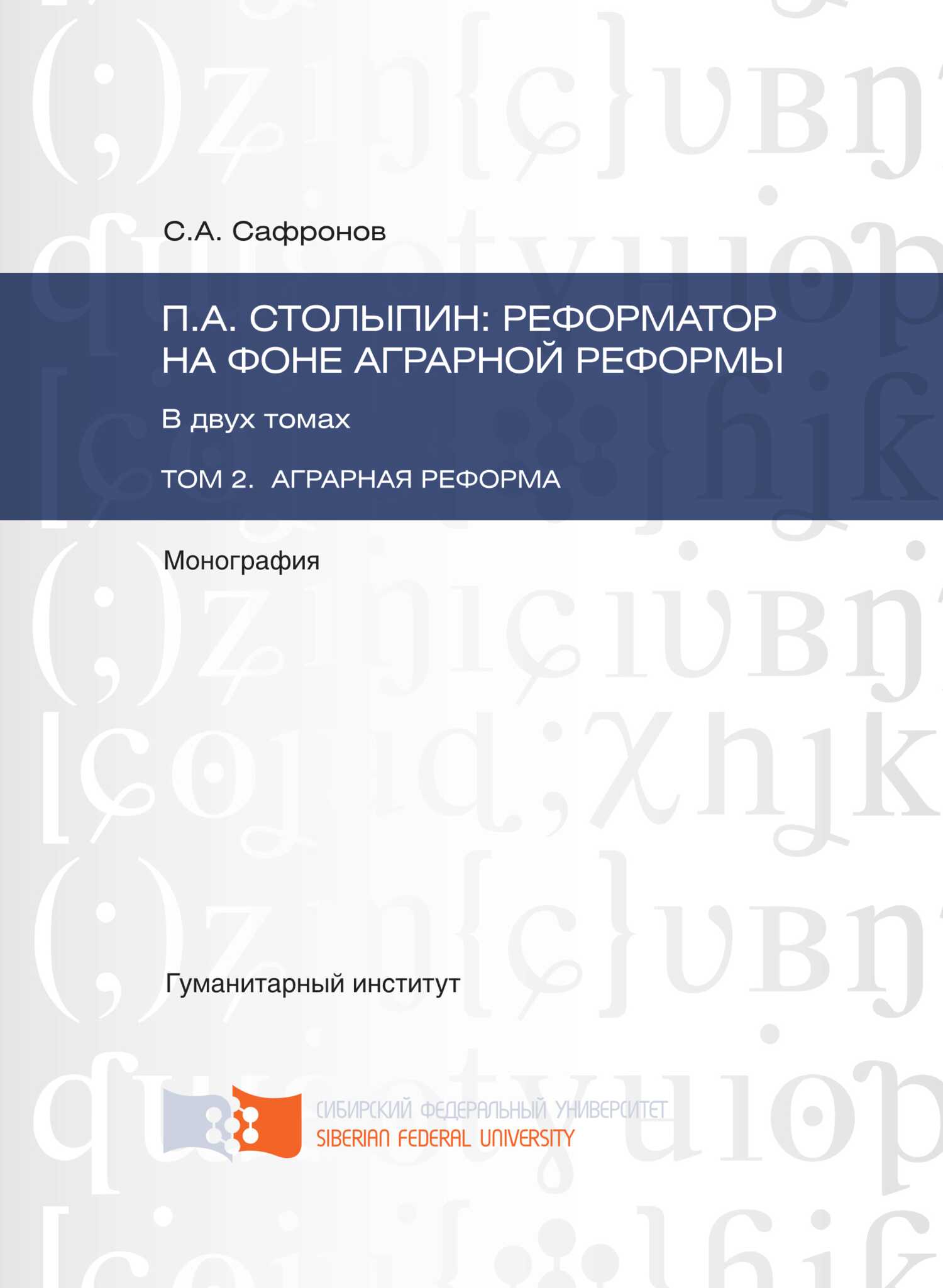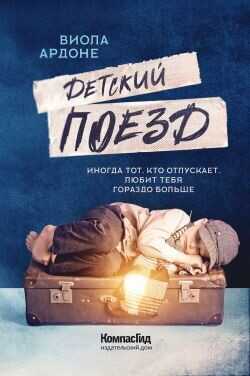Подойдя ближе, Костя схватил за ворот человека в развевающейся пижаме:
– Потише, гражданин, тут моя жена рядом спит. Где твоя комната?
– Номер четыре, – ответил пьяный, – а вы кто будете?
– Никто. Не шевелись и не шуми, не то я тебе морду набью...
– Ну, вот ещё... Раздавим стаканчик?
Костя локтем открыл дверь номер четыре и бросил туда пьяного, который мягко свалился на пол среди опрокинутых стульев. Какой-то стеклянный предмет покатилря по полу, а потом разбился с нежным хрустальным звоном. Костя ощупью нашёл дверь комнаты номер семь: это был треугольный чулан со скошенным низким потолком, в котором было прорезано окошко. Электрическая лампочка на длинном шнуре лежала на полу между кучкой книг и эмалированным тазом; в нём мокла розовая рубашка. Мебель чулана сводилась к продавленному стулу и узкой железной кровати. На ней спала Марья. Она лежала на спине вытянувшись, чему-то во сне улыбаясь. Костя с минуту смотрел на неё. Её розовые щёки горели, у неё были широкие ноздри, брови, как узкие распахнутые крылья, очаровательные ресницы. Откинутое одеяло обнажало её плечо и грудь, на которой лежала чёрная коса с медным отливом. Костя поцеловал её в голую грудь. Она открыла глаза:
– Это ты!
Он опустился у постели на коленки, взял обе её руки в свои:
– Марья, проснись, погляди на меня, Марья, подумай об мне.
Она не улыбалась – но всё её существо было улыбкой.
– Я о тебе думаю, Костя.
– Марья, ответь мне. Если бы я когда-то – сто лет, или несколько месяцев, или несколько дней тому назад – убил человека, убил, не зная его, не собираясь вовсе его убивать, но всё же сознательно, твёрдой рукой, потому что он наделал много зла во имя справедливых идей, потому что меня мучило чужое страдание, потому что я, сам того не зная, в неколько секунд осудил его и убил его за других, – я, никому не известный, за других неизвестных, за безымянных, безвольных, бездольных... что бы ты сказала, Марья?
– Я сказала бы, Костя, что ты должен держать себя в руках, твёрдо знать, что делаешь, и что незачем будить меня среди ночи, потому что тебе приснился страшный сон... Поцелуй меня.
Он сказал умоляющим голосом:
– Но если бы это была правда?
Она посмотрела на него очень внимательно. Пробили кремлёвские часы, и над спящим городом поплыли первые ноты «Интернационала», лёгкие и торжественные.
– Костя, я видела немало мужиков, умиравших на дорогах... Я знаю, какая идет суровая борьба. Знаю, что против воли делается много зла. Но мы всё же идём вперёд, верно? А в тебе – большая чистая сила. Перестань же мучиться.
И, запустив обе руки в Костину шевелюру, она притянула к себе эту сильную, объятую тревогой голову.
Товарищ Флейшман посвятил целый день просмотру папок тулаевского дела перед сдачей их в архив. В толстых этих папках было не меньше тысячи страниц. Как в застывшей капле воды отражаются под микроскопом всевозможные формы фауны и флоры, так в этих бумагах отражались человеческие жизни. Одни документы пойдут в архив ЦК, другие – в архивы госбезопасности, Генсекретариата, Заграничного отдела. Некоторые бумаги будут сожжены и присутствии представителя ЦК и тов. Гордеева, исполняющего должность наркома госбезопасности.
Флейшман заперся один на один с этими папками, от которых шёл запах смерти. В служебной записке о расстреле трёх осуждённых доверенными солдатами особого подразделения была одна лишь точная подробность: указывался момент экзекуции – 0.00 часов, 0.15 часов, 0.18 часов. Так заканчивалось сложное дело Тулаева.
Среди документов второстепенного значения, прибавленных к папкам уже по окончании следствия, Флейшману попался серый конверт с почтовым штемпелем Ярославского вокзала и несложным адресом: «Гражданину судебному следователю, ведущему следствие по делу Тулаева». К конверту была приложена записка: «Передано тов. Зверевой». На другой записке стояло: «Зверева до нового распоряжения содержится под строгим арестом. Передать тов. Попову». Для полнейшей административной точности следовало бы тут, в третьей записке, упомянуть и о невыясненной ещё дальнейшей участи тов. Попова, но какой-то осторожный сотрудник предпочел написать на конверте красными чернилами: «В архив». «Архив – это я», – подумал Флейшман, не без лёгкого презрения к самому себе.
Он небрежно вскрыл конверт. В нём оказалось письмо без подписи, написанное от руки на двойном листке из школьной тетради.
«Гражданин! Я пишу Вам, потому что этого требуют моя совесть и любовь к правде...»
Ну вот! Ещё один тип доносит на своего ближнего или же с упоением излагает собственный глупый бред.
Флейшман перескочил с середины письма к концу его, и при этом заметил, что у писавшего почерк молодой и твёрдый – почерк грамотного крестьянина, что ли, и что письмо написано простым языком, почти без знаков препинания. Но тон его был искренним – и вдруг у ответственного сотрудника госбезопасности сжалось горло.
«Я не подпишусь под этим письмом. За меня, непонятно почему, поплатились невинные, и исправить уже ничего нельзя. Поверьте, если бы я вовремя узнал об этой судебной ошибке, я бы сам принёс Вам свою повинную и невинную голову. Я душой и телом предан нашей великой Родине, нашему славному социалистическому будущему. Если я совершил преступление, почти бессознательно, не отдавая себе ни в чём отчёта (потому что в наше время убийство – обыкновенная вещь, и, наверно, этого требует диалектика истории, и я сам был только орудием этой исторической необходимости), если я невольно обманул судей, которые образованнее и сознательнее меня, мне остается только жить и работать в меру сил для величия нашей Советской страны...»
Флейшман вернулся к середине письма:
«Совершенно один, никому на свете не известный, сам за минуту до того не подозревал, что сделаю, я выстрелил в тов. Тулаева, которого ненавидел (хоть лично и не знал) с тех пор, как он провёл чистку в высших школах. Поверьте, он нанёс огромный вред нашей молодёжи, он без конца нам лгал, оскорбил то, что нам было всего дороже, нашу веру в партию, он довёл нас до отчаяния...»
Флейшман облокотился на раскрытое письмо – и пот выступил у него на лбу, зрение затуманилось, двойной подбородок обмяк, отчаянная гримаса исказила его полное лицо, и бесчисленные бумаги «дела» проплыли перед ним душным облаком. «Я так и знал», – пробормотал он, борясь с желанием заплакать, убежать куда глаза глядят, немедленно, навсегда – но всё это было нелепо и невозможно. И он поник головой над этим письмом, над его несомненной правдой.
За дверью послышалось мышиное шуршание, и голос курьерши спросил:
– Хотите чаю, товарищ начальник?
– Да, да, Лиза, дайте мне чаю покрепче...
Он прошёлся по кабинету, перечел ещё раз неподписанное письмо.