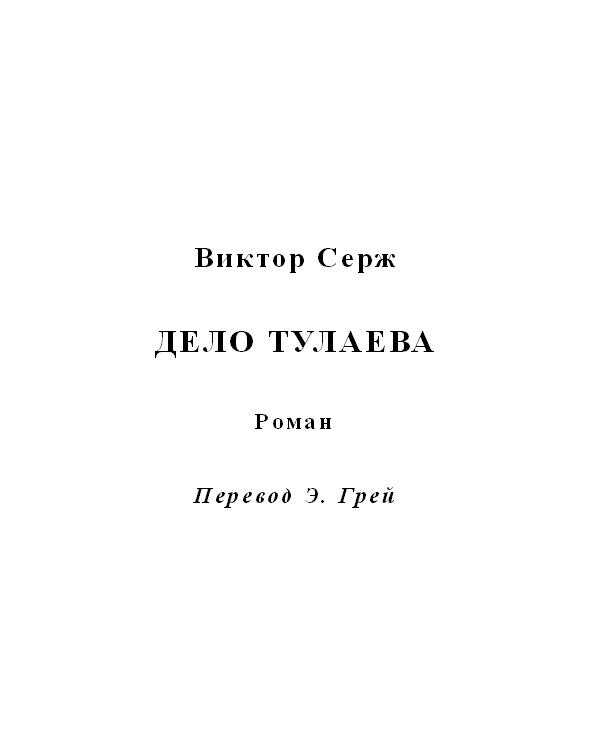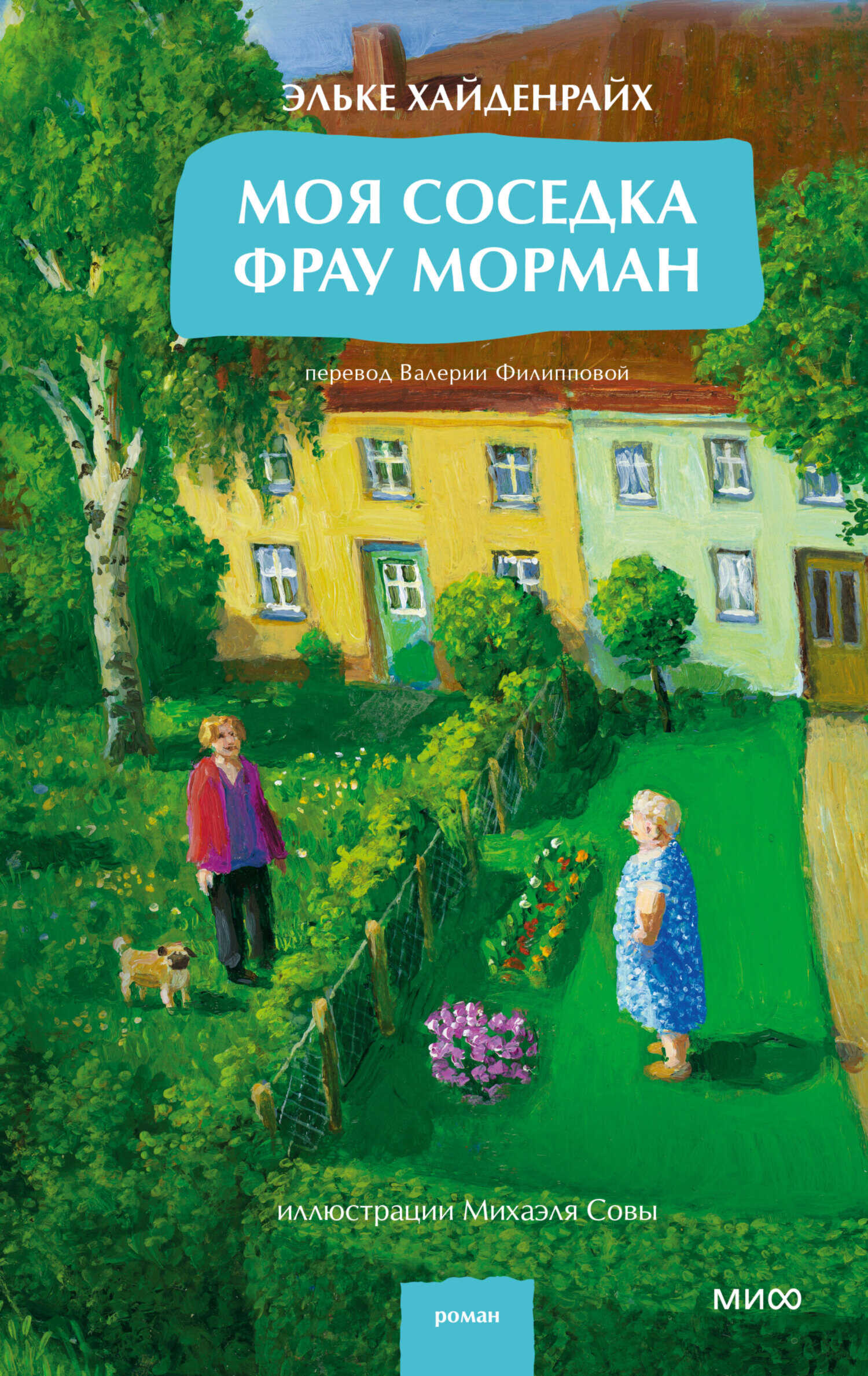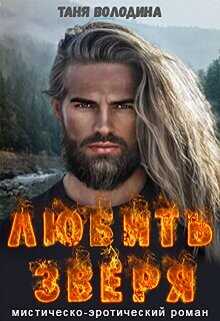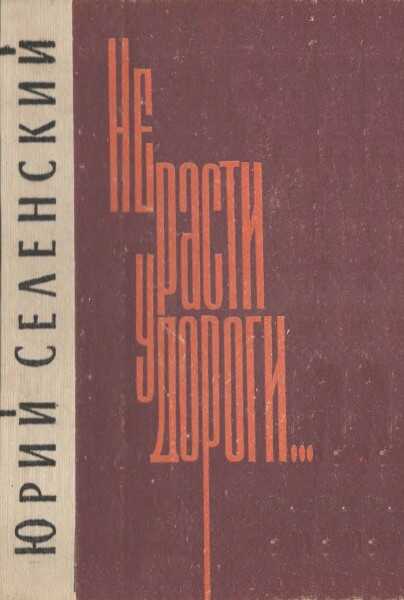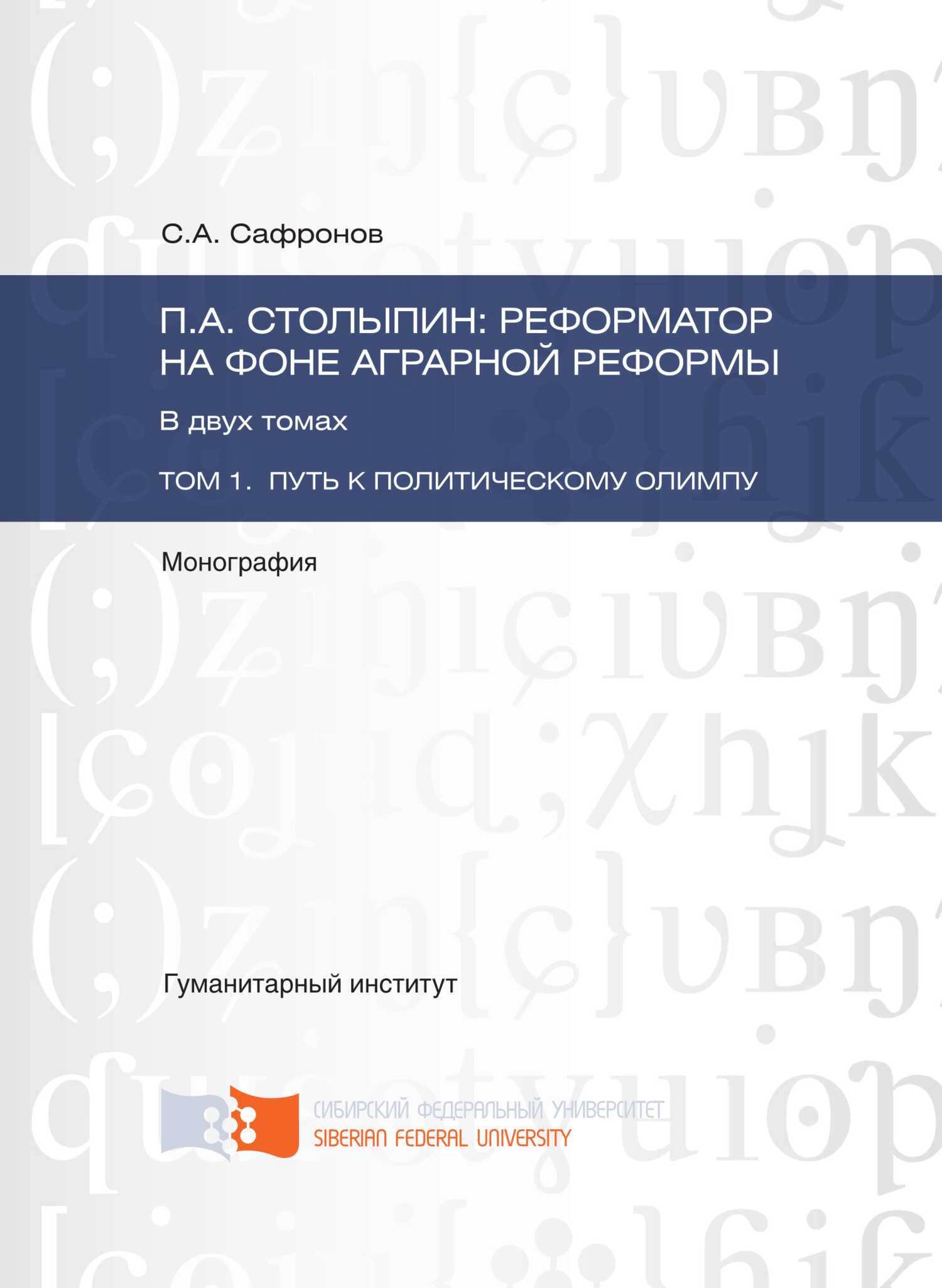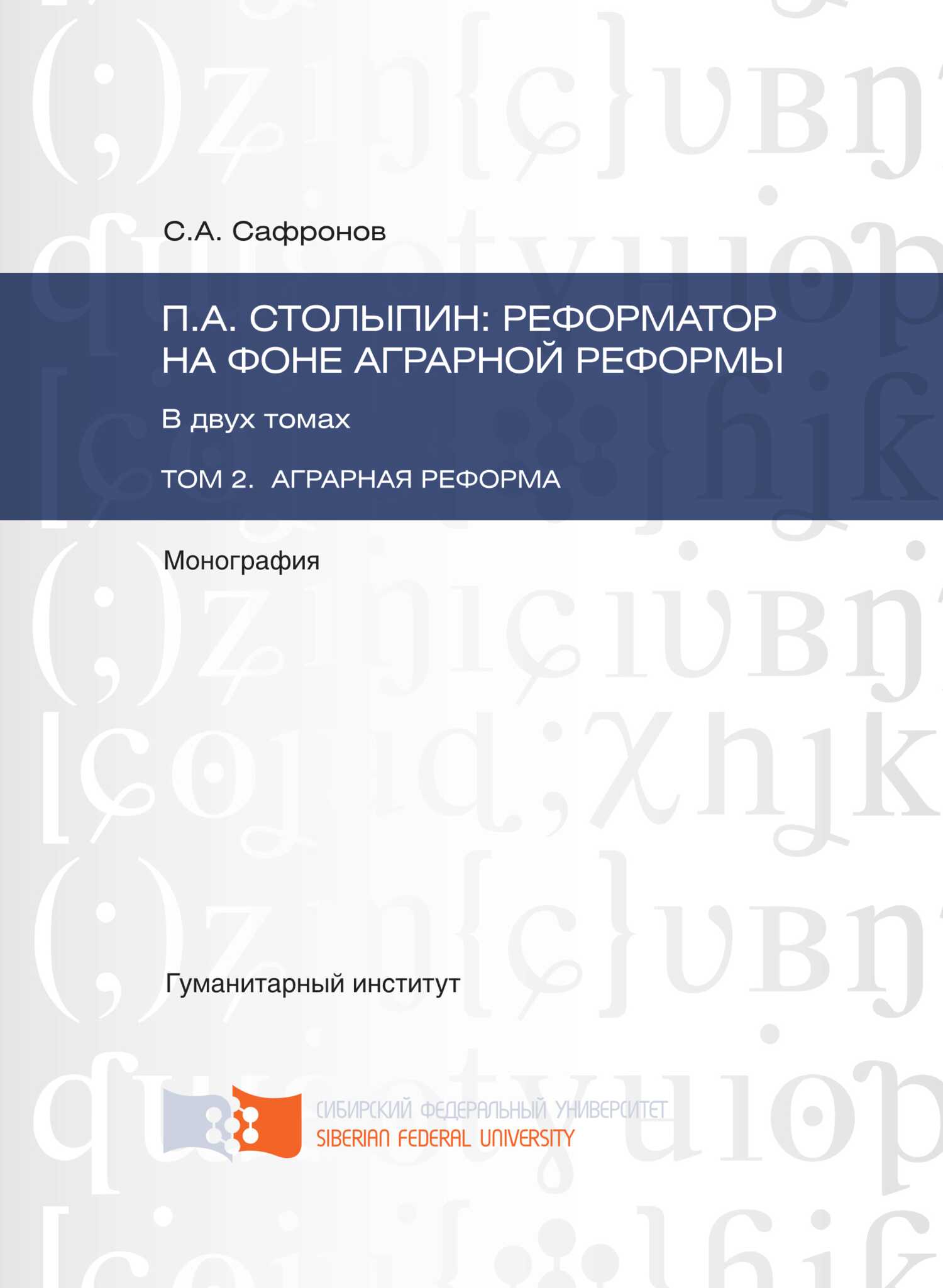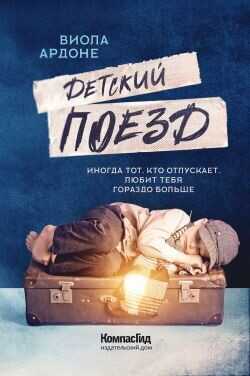Часть третья
Метаморфозы
1
Сполох за окном сделал снимок, и огненный клуб с рёвом вкатился внутрь. Грохот зазубренным жалом внедрился в мозг, дробя сознание в прах, в первобытную пыль.
Аня открыла глаза. Было темно и тихо. Молочный рассвет едва замутил щель между штор. Шершавый язык цеплялся к мягкому нёбу, не позволяя сглотнуть. В горле першило, запертый кашель царапал что-то на стенках: …ha …ar …mar…ga… rete…[14] За секунду до пробуждения Аня успела почувствовать, как атомный взрыв мгновенно вытянул влагу из её тела, оставив в постели мумию, сохлую, как пустая хитиновая оболочка.
Сердцебиение, вызванное паническим приступом, мало-помалу стихло. Очень хотелось пить. Ничего страшного, просто заложен нос, успокоила себя Аня. Обычно, когда был насморк, ей снились змеи. И раз уж она проснулась живая и невредимая, надо собраться с духом, выпростаться из нагретого кокона и добрести до ванной.
Хотя это утро впечаталось в её память по совершенно другой причине, червячок одышки зародился именно тогда. Нос, отказавшись дышать, отвечал теперь только за обоняние, всю носоглотку ниже словно забили на зиму паклей от сквозняков. Позже, в Москве, уже после их возвращения из Германии, у Ани начались затяжные гаймориты с изнурительной головной болью, и опытный детский лор сказала, выписывая рецепт, что хорошо бы летом отправить девочку в Крым, а через год – что, наверно, придётся прокалывать пазухи, но сперва удалим аденоиды и посмотрим. Пообещала, что будет не больно и быстро, просто чуть-чуть неприятно, зато потом можно мороженое сколько хочешь, хоть сразу две порции.
В детскую ведомственную поликлинику на Солянке Аня с мамой ездили, как на работу, до “Кировской” на метро, потом на гремучем трамвае, от памятника Грибоедову три остановки и после немного пешком, мимо баптистской церкви, на церковь совсем не похожей – просто старинный дом, – про которую мама сказала, что там шпионаж, связи с Западом и запрещённые книги, провезённые контрабандой. Обычная церковь тоже скрывала в себе страшную тайну, но совершенно другого сорта, связанную со смертью: перед похоронами туда привозили покойников. В остальном такой уж зловещей угрозы она вроде бы не представляла. Может быть, потому что дядя Валера Мовчан, папин лучший друг и вылитый Жан Габен, “курировал патриарха”. Что это значит – “курировал”, Аня толком не знала, но слово внушало уверенность, что источник опасности взят под контроль.
2
Очередь на операцию двигалась медленно, было не страшно, и хорошо, что медленно, потому что с собой была книжка “Джен Эйр” и хотелось успеть закончить, пока не вызовут. Дочитала, а всё не звали, и теперь уже хотелось, чтобы поскорее. Шуметь было нельзя и заняться нечем, так что приходилось вполуха слушать, как очередь обсуждает какую-то дочку – позорит отца, когда у него должность такая ответственная, а она с фарцовщиками якшается и ходит в лебяжьем манто даже летом, “как на шарнирах”, – сравнение было не очень понятное, но интересное. Аня представила, как при ходьбе шарниры немного потрескивают и скрипят. Из кабинета тем временем вышел в слезах бледный как смерть мальчик в джинсах и свитере с Микки Маусом, и внутри у Ани всё похолодело. Женщина с пышно уложенной сединой под газовой, с люрексом, сиреневатой косынкой, явно ему неродная и до того просидевшая неподвижно, отдельно от всех, с вещами в руках, молча его одела и увела. Ишь какой модник… мидовский интернат[15]… – зашипела им вслед компетентная очередь. Вспыхнул фонарь.
Сперва пристегнули ремнями, как в самолёте, к жёсткому креслу. Потом к подлокотникам примотали запястья. Лодыжки привязали к деревянным ножкам. Закапали в нос новокаин, но всё равно было больно и слышно, как с треском, стягивая петлёй из упругого тросика, рвут по кусочкам живое мясо.
Женщина-врач оказалась другая. Мороженое она запретила, только ангин не хватало, и Аня с мамой пошли в кафетерий в доме с фигурами пить молочный коктейль. Талый пломбир глотался тугими солоноватыми сгустками, и долгожданный ноябрьский снег за витриной шёл по бульвару, как скучный бессмысленный фильм для взрослых, не вызывая ни радости, ни волнения. От большого глотка вдруг заложило уши. В глазах потемнело, и небо, и снег, и молочный коктейль стали чёрными, а силуэты деревьев, уже облетевших, вспыхнули белым. Аня сморгнула, мотнув головой, и всё стало как было.
В декабре, когда горло почти зажило, Аню отправили в Евпаторию, в детский лор-санаторий. Туи и кипарисы в снежных чехлах придавали курортному городу сонное сходство с домом-музеем, куда привезли на экскурсию группу сопливых школьников. Даже прибой, скованный льдом, казался закупорен для сохранности в бирюзовую стеклотару. Волны, застигнутые морозом, замерли неподвижно, как по команде в игре “море волнуется раз”. На этот пароль у всех санаторских был выработан рефлекс – “замирали” всегда после полдника, в час, отведённый подвижным играм, как, на свой лад, их понимал здешний режим. Подчиняясь его расписанию, сорок стерильно-сиротских дней проползли, как плацкартный состав вдоль пустого перрона, но как бы там ни было, хвойные ванны и чёрная грязь Сакского озера сделали своё дело даже вопреки Аниному оцепенелому неучастию.
Зимняя одышка отступила, но проклятый насморк, изменив стратегию, вернулся к Ане летом под видом сенной лихорадки.
3
Жизнь их семьи отчётливо разделилась на “до” и “после” отъезда из ГДР. Анино гарнизонное детство было чем-то похоже на дачное. Забранный проволокой участок мира легко обнимался мысленным жестом, включая в себя столько приключения, сколько было нужно, чтобы не оставить места скуке и продолжительной грусти.
Вереница невзгод, цеплявшихся друг за друга с упорством клопов-солдатиков, повилась с того дня, когда перед самым отъездом в Союз обе девочки Витруков заболели ветрянкой. Температура у младшей метнулась к отметке сорок. От зуда она не могла уснуть, её рвало и знобило. У измученной матери всё валилось из рук. Отец, с отвращением глядя на груды разнокалиберного багажа и кисло-варёных детей в зелёную крапинку, багровел, угрожая вот-вот взорваться. В разорённой квартире сгущалось предчувствие катастрофы. В свой срок оно разрядилось, хотя и иначе, чем ждали притихшие домочадцы. Перед погрузкой в старенький газик, поданный, чтобы везти Витруков на “русский вокзал” в Вюнсдорфе, на имя отца пришла телеграмма с известием о гибели младшего брата. Автомобиль с двумя офицерами и рядовым-шофёром попал под ракетный обстрел на пути в Кандагар. Все трое “скончались мгновенно вследствие прямого попадания”. Смысл этих слов Аня поняла сама, без объяснений.
Первый месяц-другой в Москве предполагали пожить у родителей, но теперь все планы висели на волоске. Старый Витрук свалился с инфарктом, и только железная