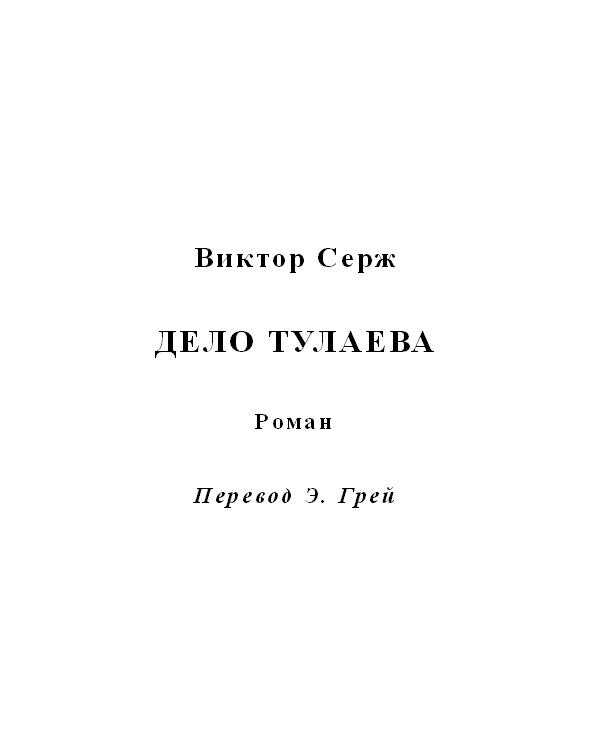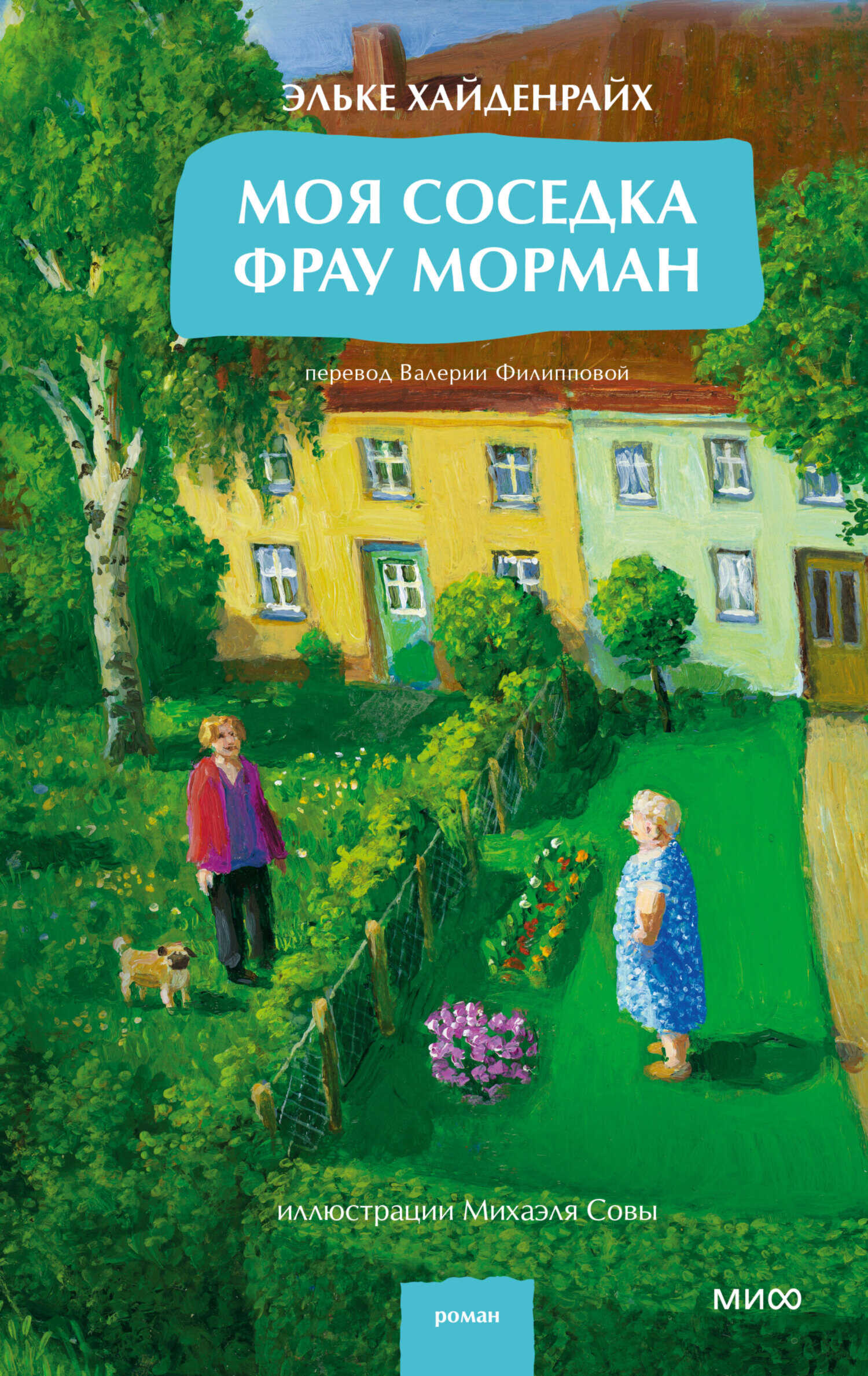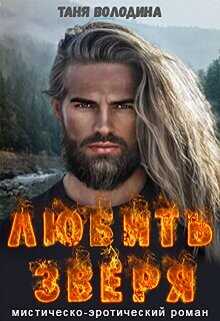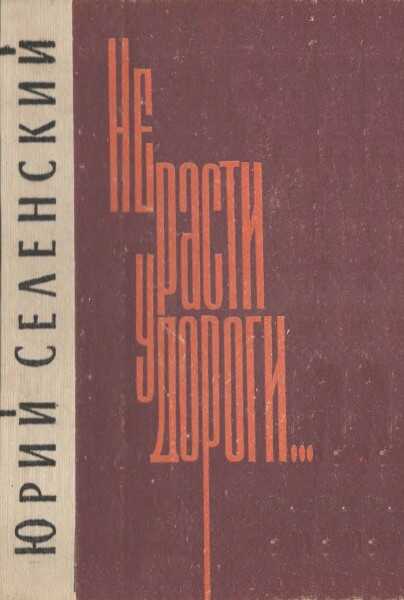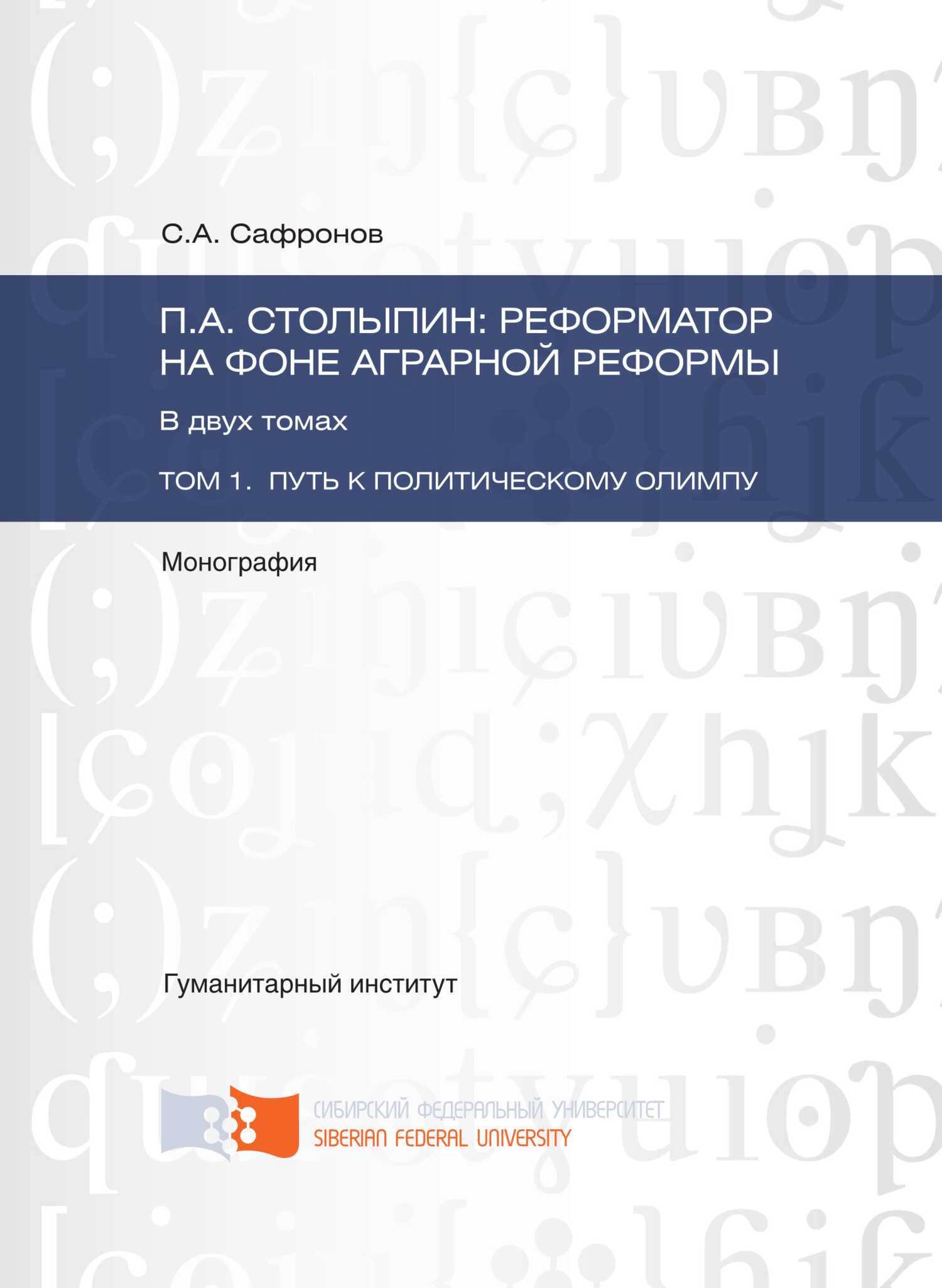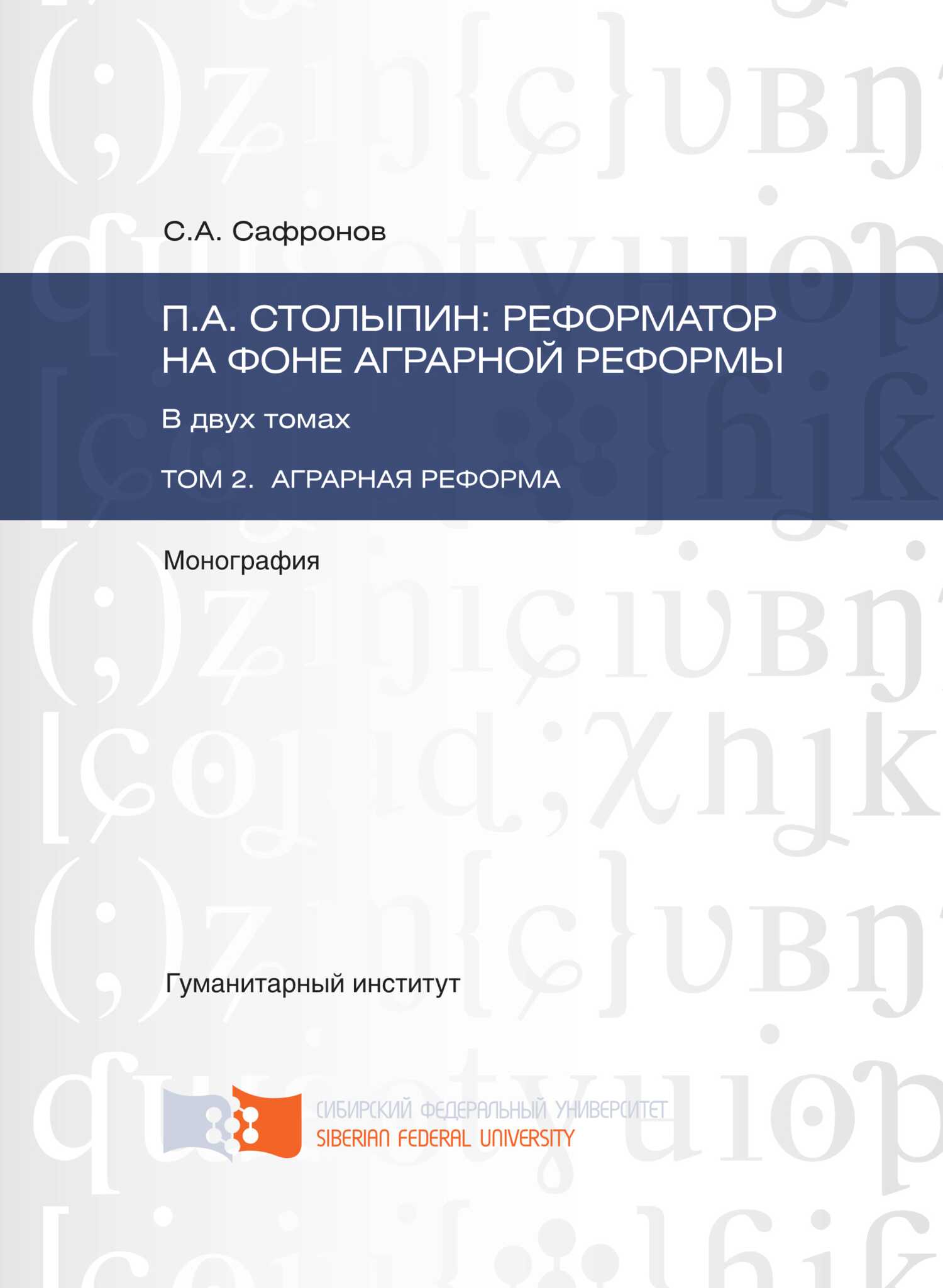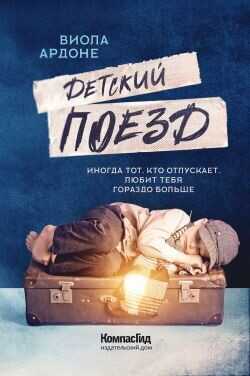воля Натальи Григорьевны удерживала её саму на грани нервного срыва. Решили, что будет разумнее, если Ирина, вдова Василия-младшего, временно к ним переедет, и предстояло понять, как теперь всем разместиться в двух комнатах.
Пока там у них всё образуется, Тонина мать забрала Аню в Ригу. Чтобы не пропустить половину четверти, в школу пришлось пойти по соседству, на той же улице Упиша, в старом красивом доме, вплотную притиснутом к жёлтой цэковской пятиэтажке из кирпича, в которой жили Коханчики.
Среди кучевых облаков голубого школьного потолка реяли полуприкрытые тогами ампутанты: этот с обрубком крыла, тот без руки, этот без ног или, того хуже, обезглавленный варварской позднейшей перепланировкой. Вместо коричневых, как у Ани, ученицы носили под фартуком синие платья, а октябрятские звёздочки – цвета сухой мандариновой корки. Чтобы не выделяться, она тоже купила себе такую в газетном киоске, но всё было без толку. В столовой Анина миска с холодной медузой из теста, плававшей в молоке, оставалась стоять нетронутой. На уроках латышского её пересаживали на “камчатку”, пока весь класс хором читал с доски: mūsu māja – jūsu mājas – viņu mājas – kuru māju tas ir?[16] – переливая из склянки в склянку дзинькающее наречие. К концу урока слова и кусочки фраз, словно аптечные пузырьки, выстраивались шеренгой где-то на дальней полке сознания, рядом с немецкими фразами и словами, которым отец научил её, чтобы могла сама вежливо сделать в кафе несложный заказ или в каком-нибудь экстренном случае выпалить как пулемёт: ихь бин гхуззн! ихь бин ди токхта! айнэс! советишен! официгхе![17] – хотя худо-бедно могли объясниться по-русски почти все восточные немцы.
В доме у Коханчиков царило непривычное уныние. У Ильи Леонидовича были служебные неприятности, и, приходя с работы, он машинально съедал свой ужин и запирался в спальне. Тамара Демьяновна тоже была сама не своя. Анино сердце рвалось к маме в Москву, но на вокзальной площади после маленькой Риги, похожей на уютные немецкие городки, обречённо притихло и сжалось в зябкий комочек. Окружающее пространство безудержно разбегалось сразу во всех направлениях, словно кто-то снаружи его надувал, как шарик. Ростом с кузнечика, посередине, вцепившись в мамину руку, понуро стояла девятилетняя Аня, охваченная чувством экзистенциального одиночества.
В первый день в новой московской школе комиссия гороно проверяла у 3 “В” технику чтения. Аня вошла в число лучших и получила в дневник пятёрку. На математике вызвалась выйти к доске и получила ещё одну. После второго урока был завтрак: сырки в шоколаде. Настроение у Ани уже почти наладилось, когда на перемене после третьего к ней подошёл одноклассник в очках и пионерском галстуке, тоже попавший в тройку лучших чтецов. Ткнув указательным пальцем в Анину звёздочку, он во всеуслышание сказал, что она фальшивая, после чего повалился на пол и громко заверещал. Удар пришёлся в челюсть, как учил отец. Мальчика подняли с пола и повели к врачу. Ане красной ручкой написали замечание в дневник и велели маме завтра прийти в школу.
Дома Ане здорово влетело. Мама ей сказала, что в Москве так себя ведут только дикари, которые привыкли жить в лесу. Как можно быть такой грубой? Ты же девочка!.. – Ты зе девотька! – поддакнула в тон маме младшая сестра, которой только что поставили пластинку для исправления прикуса. От этих скучных слов на Аню накатила душная тоска, и она подумала, что с превеликой радостью осталась бы в Германии и жила в лесу в полном одиночестве, добывая себе пропитание охотой и собирательством. Как индейцы.
Спасибо хоть отец её не отругал, когда пришёл с работы: только усмехнулся.
Выслушав все стороны, завуч постановила, что, хотя мальчик неправ и должен признать это перед всем классом, Анина вина гораздо тяжелее. Красного галстука Аня Витрук пока не достойна. Поэтому в пионеры её примут в последнюю очередь, при условии, что она успеет ко дню рождения Владимира Ильича исправить своё поведение. А до тех пор пионерская организация будет за ней пристально наблюдать.
Наказание было суровым: весной в Музее Ленина в пионеры принимали только отстающих. Лучшим из лучших галстуки уже повязали перед Седьмым ноября в Мавзолее. Всего через месяц, в День образования Советского Союза, на ВДНХ та же процедура предстояла хорошистам.
На следующий день пионерская организация благополучно забыла об Анином существовании и не вспоминала о нём больше до самого апреля. В числе отстающих она хором прочла наизусть торжественное обещание и, как предписывал протокол, оставила октябрятскую звёздочку в общей насыпи в центре музейного вестибюля. С тех пор, приходя каждый год на обязательную экскурсию, Аня с первого взгляда могла распознать в этом кургане из звёздочек – единственную свою.
4
В первое время в чужом сером городе, чья огромность никак не вмещалась воображением, к Ане отовсюду, будто многоножки, сползались слухи о детях, пропавших и найденных после с удавкой на шее и почему-то в ботинках с отрезанными мысками. Некоторые возвращались, немые и обескровленные, со свежим швом ниже рёбер или повязкой поверх пустой глазницы. В шоколадной конфете, предложенной в скверике ласковым незнакомцем, могла оказаться бритва, в яблоке – иголка, в монпансье – снотворное. Псих с заражённым шприцем подстерегал в троллейбусе. Вагоны метро кишмя кишели проказой.
Приступы тоскливого страха случались и в предыдущей Аниной жизни, но ими ей удавалось почти безболезненно пренебречь – как скользящими в поле зрения мушками, неустранимыми, но и не искажающими сколько-нибудь заметно картину мира, в целом, скорее, благополучного.
Было, например, очень обидно услышать вдогонку от сверстников-немцев: Russische Schweine! Но это, во-первых, случалось не так уж часто, а во-вторых, никогда не имело к тебе личного отношения: при более близком контакте неприязнь моментально сменялась доброжелательным любопытством. До одури жутко бывало вдруг обнаружить фашистский крест на могиле русского кладбища рядом со школой: каждый ведь знал, что чертить их нельзя, потому что опять начнётся война, и, когда видели на асфальте, старались скорее стереть и нацарапать кирпичным осколком звёздочку поверх – не отрывая руки! – а если крест не стирался, то запереть его, как за решётку, в квадрат из четырёх клеточек. И всё же глумление над могилами относилось к случаям вопиющим: своих Neonazis немцы и сами стыдились и ненавидели их едва ли не больше, чем русские. Как, должно быть, стыдился Анин отец, две ночи не спавший дома и вернувшийся только к полудню третьего дня, двух рядовых-дезертиров, напавших в ближнем лесу на девочку-немку, которых он арестовал и отправил под трибунал. И как ненавидела сама Аня, наткнувшись в эти же