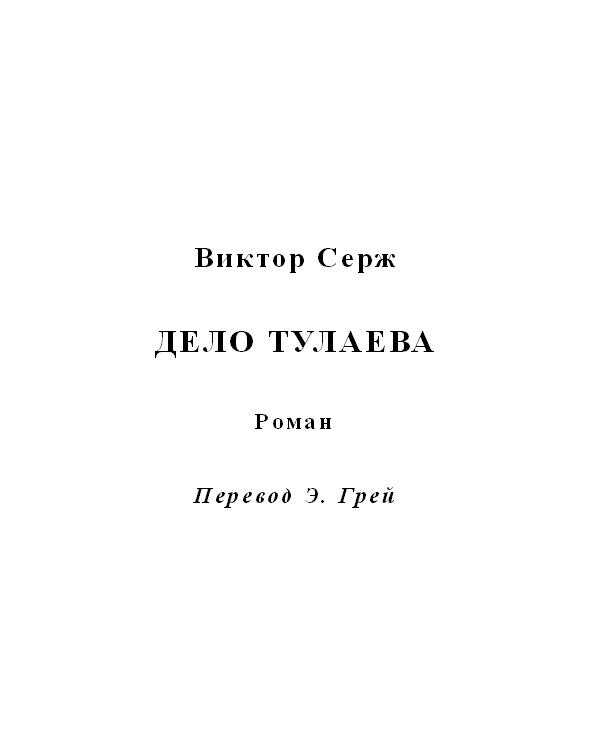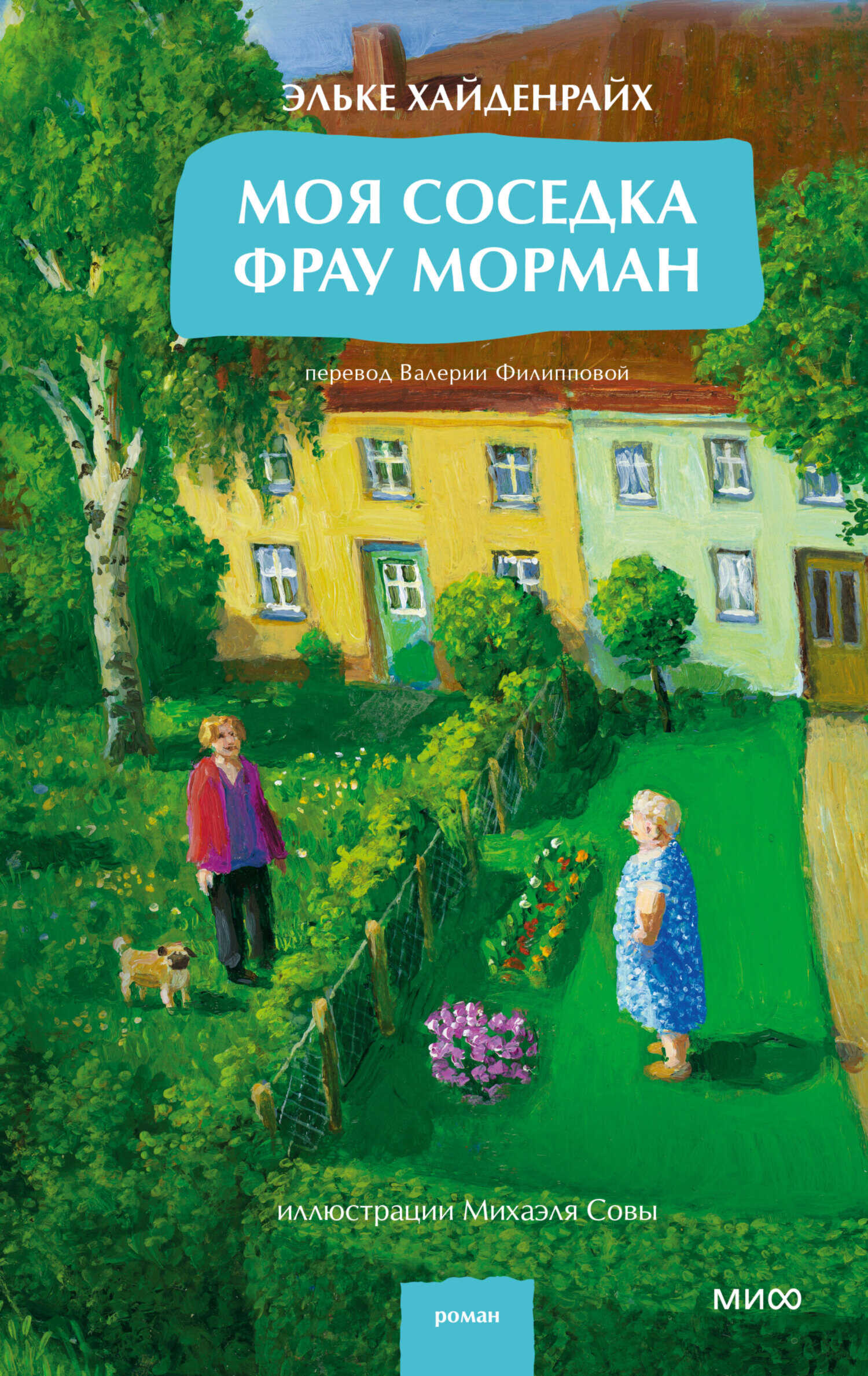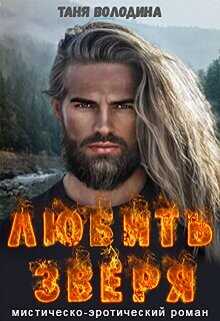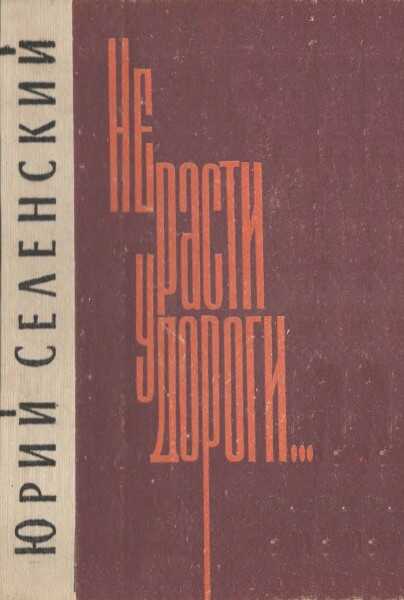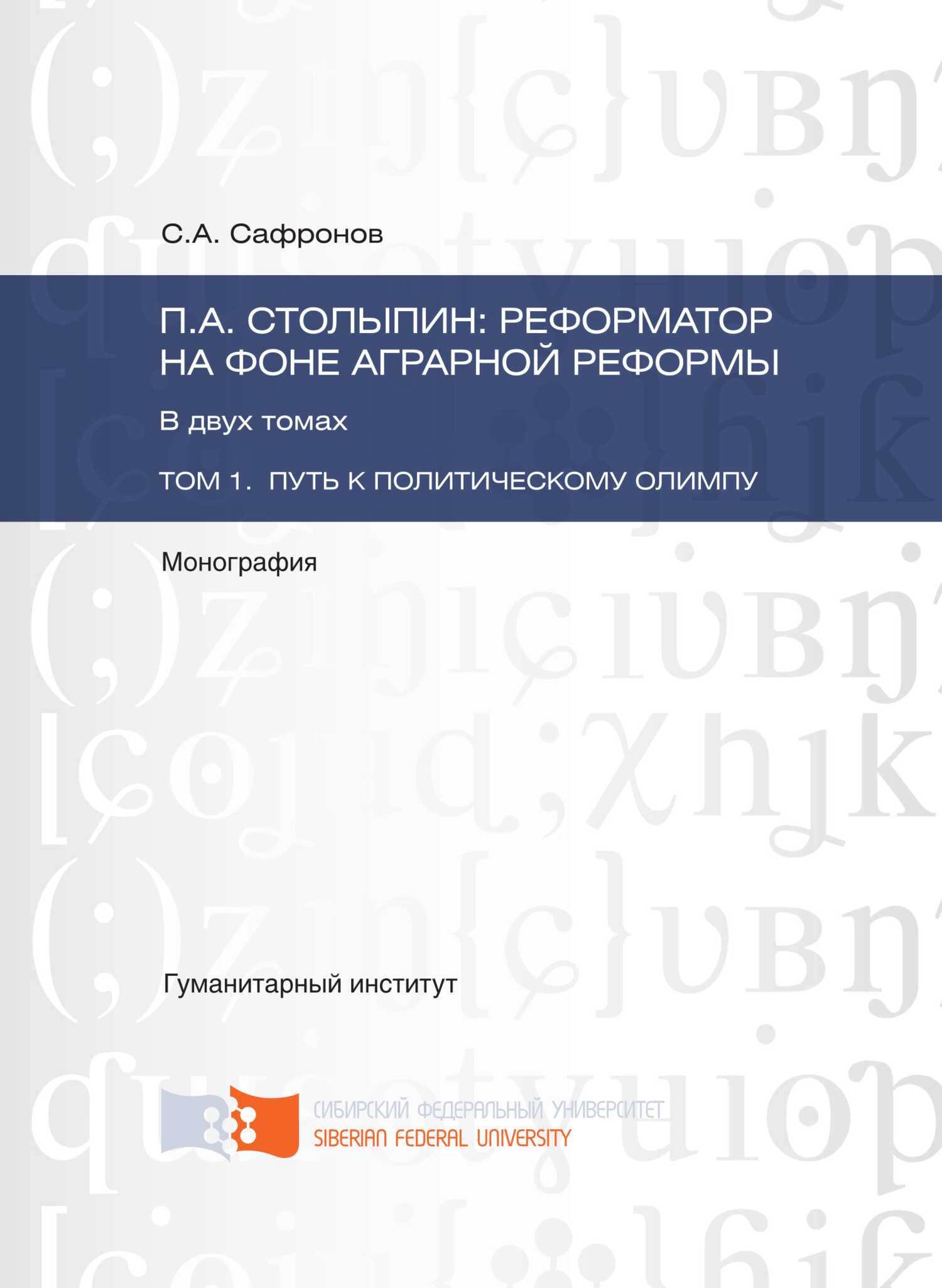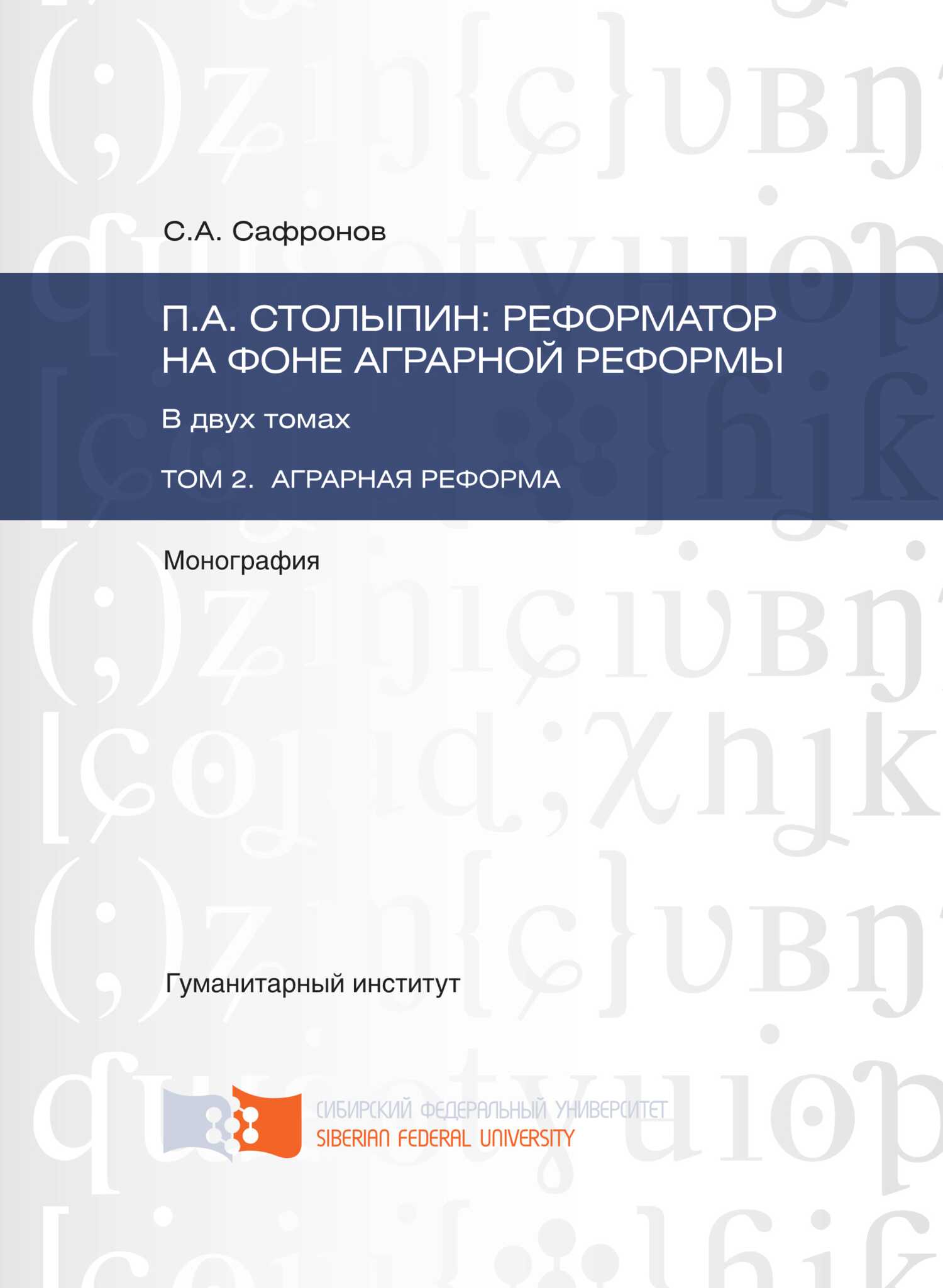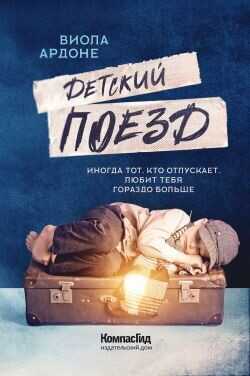ты ревнуешь?”
Напиток был сладковатый, совсем незнакомый, с приятной кислинкой, чуть газированный.
– What's this? I like it.
– You'll never guess! Wanna see?[65]
Жестом он пригласил Анну на кухню. Перед окном стоял стол, застеленный чёрно-белой клетчатой скатертью, а на столе – стеклянный кувшин с чайным грибом. Божественный ребёнок-великан снова сделал прыжок с одного лилипутского острова на другой. Вода с тяжёлым шлепком приподнялась над краем бассейна, образовав аккуратное маленькое цунами. От океана вдруг потянуло тухлыми водорослями…
– Anna, this is Kombucha![66] – провозгласил хозяин, рукой помавая в сторону гриба, словно бы представлял их друг другу на королевском обеде.
Комбуча, блин, трах-тибидох… Унесите!
Часть пятая
Одеколон
1
Если считать от метро, двадцать первый подъезд дома № 35/30 по Кутузовскому проспекту был самым дальним, в тихой части двора за баскетбольной площадкой. Отцовский указ предписывал топать на третий этаж своими ногами, но если никто не видит, можно ведь и на лифте, спустившись коротким пролётом в цокольный вестибюль с нарядной двустворчатой дверью чёрного хода, задуманной как парадная и по необъяснимому советскому обыкновению запертой на висячий замок. Когда они здесь поселились, Аня была в третьем классе и, нажимая в потёмках кнопку, вынуждена была резко подпрыгивать, как бы превозмогая планку погрешности, на которую сталинский лифт списывал вес детского тела.
Двери квартир в подъезде, кроме отдельных, обитых стёганым дерматином, покрашены были в один некрасивый цвет. Не умбра, не сурик, не сепия – скучная старая ржавь, нечистый оттенок охры, поселявший в душе то безысходное чувство, которое возникает от полного отсутствия в жизни возможности приключения. У охры есть дивные солнечные оттенки, тягучие, виолончельные, пахнущие мёдом и кедровой древесиной, но в этом, подъездном, их гулкая нота звучала фальшиво, словно разболтанная струна, и нагоняла только уныние и почему-то тревогу, напоминавшие Ане о неизбежности взросления, сопровождаемого постыдными телесными переменами и неумолимым разрастанием обыденности, угрожавшим вытеснить из жизни всё её хрупкое волшебство.
Волшебство было радостной тайной – гремящей и радужной, как водопад, горячей и яркой, как ворох трескучих искр от ночного костра на пляже и как, вперемешку с морскими брызгами, ветер. Острой, щекотной, собравшей от многого лучшее, трепетной и опасной, как высота, как восторг – или, может быть, как свобода, но только такая, какой всё равно не бывает, своенравная, не признающая ущемлений, даром что объективных, как, например, гравитация: только оттолкнись ногами и взлетишь… Невозможная и неуместная, непозволительная подноготная, не совместимая с повседневностью, в которой есть паспорта, пропуска и свидетельства о рождении, как и сам процесс деторождения, грязный, болезненный, не до конца понятный. У повседневности был свой характерный запах, в котором различались нотки дихлофоса, мокрой тряпки, клея для бумаги, валерьянки, хлорки и лаврового листа. Почуяв их, волшебство рефлекторно смыкало створки, скрадывалось в тайном измерении, так что и шов не бросался в глаза – стык на обоях. Сразу делалось тесно, душно, неинтересно, как будто везде наставала старость. В этом ампутированном мире, словно генераторы тоски, стрекотали счётчики расхода электричества, тикали часы, и не в такт им капало из крана, кипятился суп, и тянулся хвост в винный магазин, и, как грандиозный, во всю длину проспекта первообраз, выстроились в очередь портреты ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ.
2
Ключи от общей квартиры № 357 Аня носила на шее под школьным платьем. Иногда в суете утренних сборов они куда-то девались, но, в принципе, если дверь не была заперта на нижний замок, верхний легко открывался монеткой. Нижним пользовались редко, только когда все уходили из дому, и, если он был заперт, это значило, что дверь ей открыть некому, кроме Деда, как звали за глаза соседи по коммуналке самого старого квартиросъёмщика. Инвалид первой группы Михал Николаич Кикоин жил в дальнем конце квартиры, но по давнишней привычке всегда был готов к трудовому подвигу. Ждать его приходилось мучительно долго, аукаясь через дверь каждые несколько шаркающих шагов. К концу перехода Ане уже начинало казаться, что это не он, а она спасает беспомощного старика, заблудившегося в коридоре.
Дед был одет всегда одинаково, словно так и спал в приклеенном берете, синих тренировочных штанах и заводской спецовке с навеки привинченным знаком отличника социалистического соревнования. Очень похожие треники, только потолще, с начёсом, носила дома и Аня – в их комнате, подвешенной над аркой, во все времена года свистели сквозняки, переключая регистры в зависимости от погоды. Когда её за чем-нибудь посылали, Аня, подтянув штаны повыше, чтобы не растерять сэкономленное тепло, набрасывала пальтишко с воротником из цигейки, прыгала в “луноходы” и без оглядки мчалась по родительскому поручению, покамест не успело прорасти, как старая картошка, разными заодно.
Раз перед ужином мама, затеявшая голубцы, отправила Аню за развесной сметаной – “и сахар купи заодно”, – велев поспешить, чтобы успеть к приходу отца.
Сахар-рафинад, фасованный в коробки, продавался рядом, в булочной за углом. Сметана – в магазине “Молоко”, на той стороне проспекта. Однако практичнее было всё взять в угловом “Гастрономе”, тоже на той стороне, купив сметану похуже, в пачке, запечатанной фольгой, а маме соврать, что развесная кончилась, и избежать таким образом хотя бы одной длинной очереди.
Анина хитрость вышла ей боком. Сахар она купила, а вот сметану в пачках то ли в этот день не завезли, то ли моментально разобрали, потому что к вечеру выбросили завтрашнюю. Так что пришлось всё равно бежать в “Молоко” – экспериментальный магазин самообслуживания.
Выстояв длинную очередь “на завес”, Аня торопливо зашагала к кассе, когда у неё на пути неожиданно вырос белый как снег МАВЗОЛЕЙ.
Точнее, макет Мавзолея. Довольно большой, хотя не настолько, чтобы заметить его при входе. Несколько упрощённый, но всё равно очень похожий. Говоря по правде, не очень-то уместный в магазине “Молоко”. Если не сказать, недопустимый – поскольку был построен из пачек рафинада, который, как известно, является товаром бакалеи.
Пачки был стандартные, массой один килограмм: точно такой белый кирпич лежал в хозяйственной сумке, которую Аня держала в левой руке. В правой была металлическая корзина с банкой свежей сметаны, заполненной на две трети.
При виде такого сюрприза Анино сердце вспорхнуло, стукнулось о ребро и, потеряв ориентацию, рухнуло замертво.
Выход из зала лежал через сплошную линию касс, где за оплаченный сахар снова потребуют рубль четыре копейки – огромные деньги, которые уже были потрачены. Чек из “Гастронома”, наколотый на спицу, остался у бакалейщицы.
Сбитая с толку Аня дважды обошла в недоумении сахарный Мавзолей, постояла рядом, с опаской огляделась, незаметно вынула рафинад из