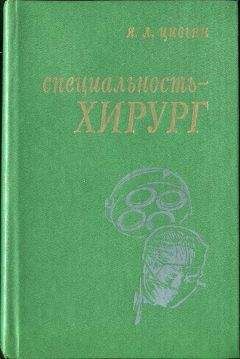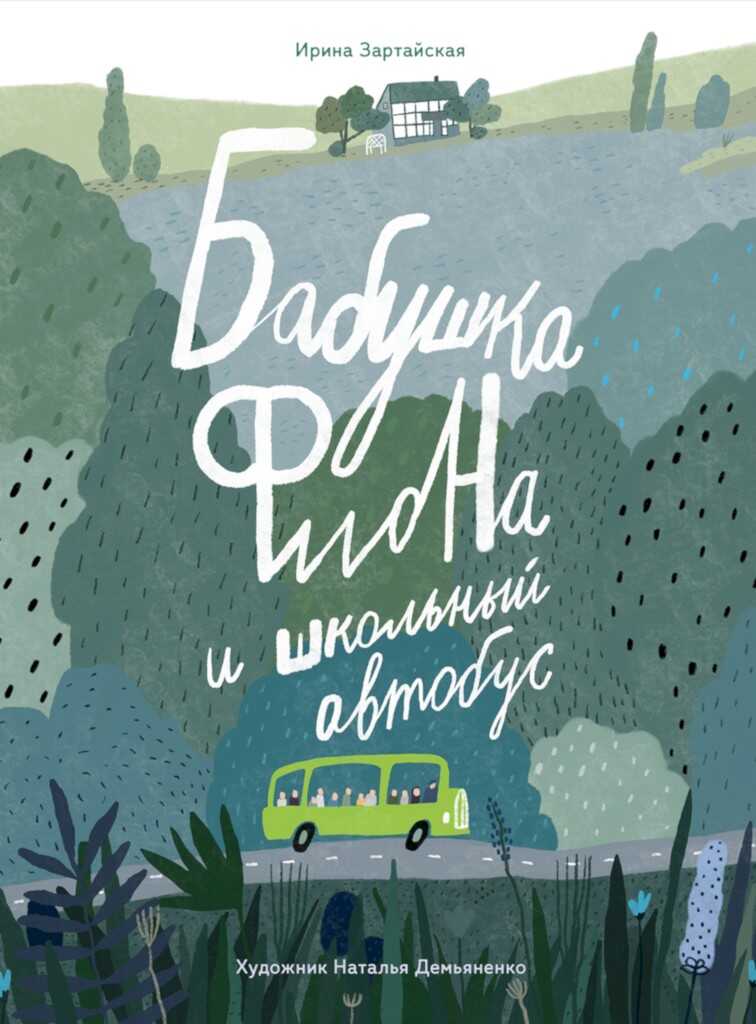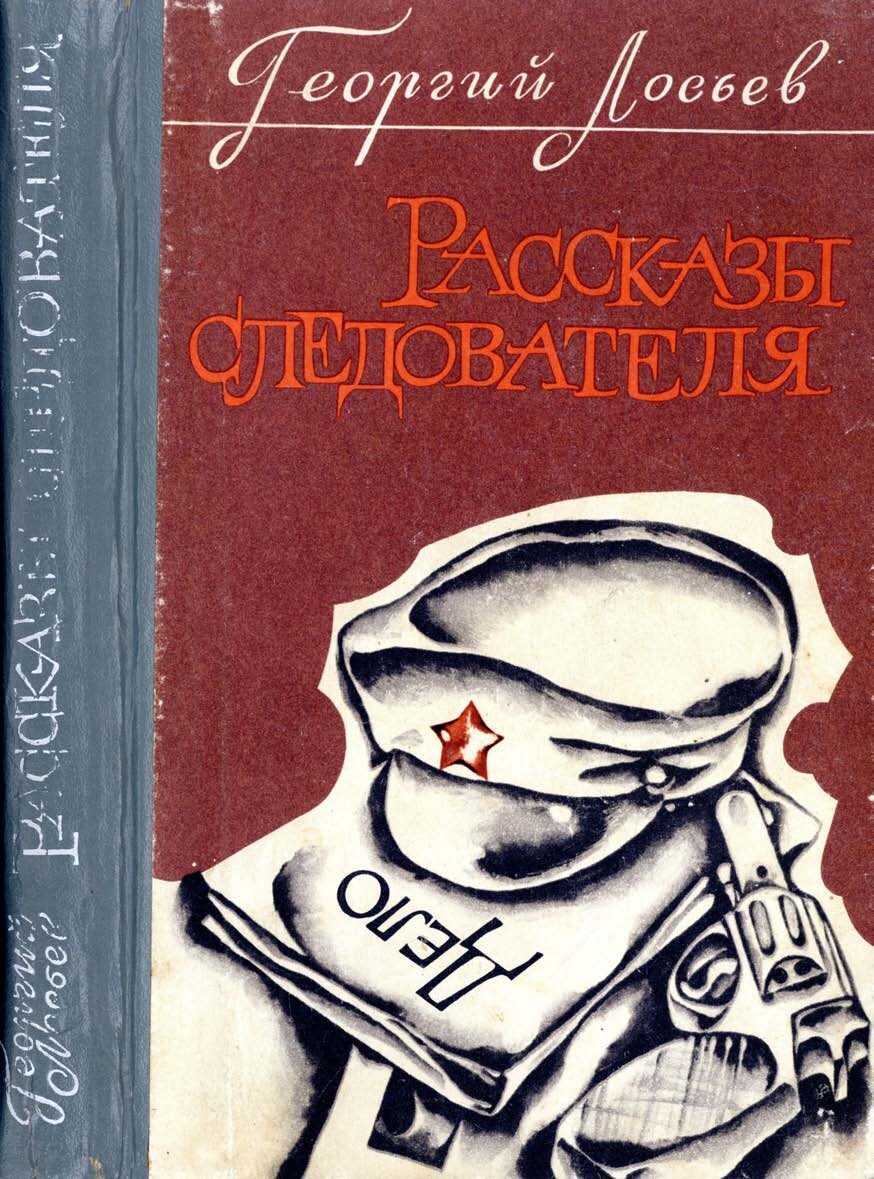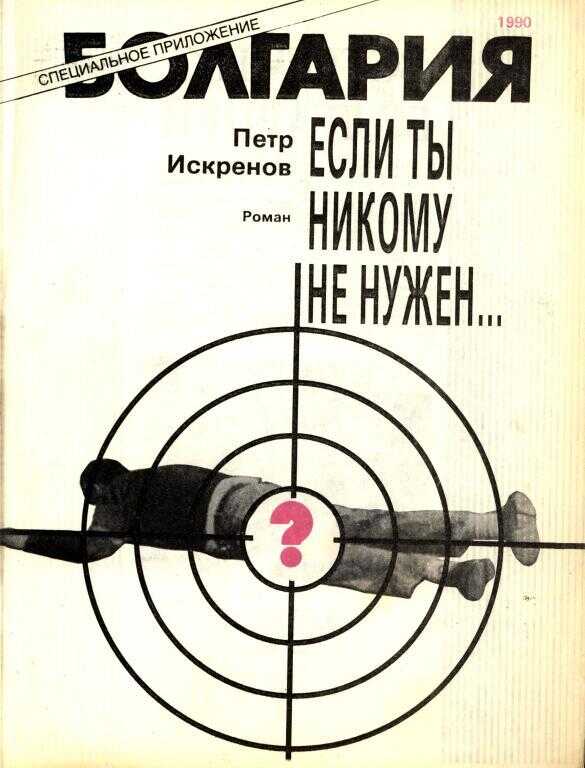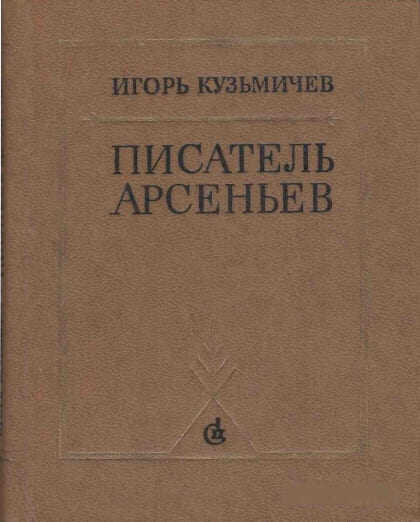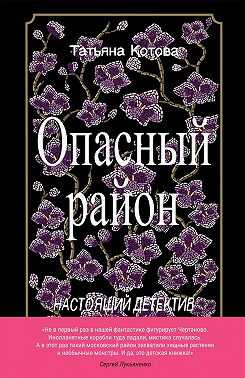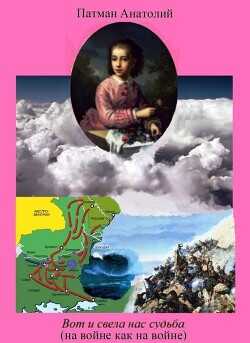и сама встала с кровати, взяла половую тряпку, намочила и как-то боком, стоя на коленях, начала протирать пол. Посмотрит на этот пол, вздохнет, сделает круг тряпкой, еще вздохнет. Тяжело ей. Я говорю:
— Ты погоди, я брюки поглажу — сам вымою!
— Разве то пол стал? Срам один!
Я-то помню, как она до войны пол красила. Сначала чисто вымоет доски с мылом и скипидаром, потом мы все бугорки ровняем мелкой наждачной бумагой, целый день по полу ползаем, промазывая каждую щелочку шпаклевкой, которую мать сама изобрела. Олифу варим на примусе из кедрового масла, краску растираем, сто потов прольем. Затянем окна. марлей, и мать широкой кистью размеренно прохаживается по доскам. Просохнет пол, она его вымоет и выкрасит на второй раз уже жиденькой краской и кистью помягче. И комната кажется чистым прудом с желтым песчаным дном. А за два военных года мы не только ни разу пол не красили, но прямо в комнате зимой рубили дрова: то стул раскромсаешь, то доску какую-нибудь, на улицу выйти уже и сил нет. Стал пол щербатым, грязным, теперь его ничем не отмоешь...
Ай! Я на мать засмотрелся, большая искра прожгла мне в брюках дыру. Вот так встретил дядю в приличном виде! Что же теперь делать?
Мать молча взяла у меня брюки и стала поспешно пришивать заплату, а я принялся домывать пол. Теперь придется встречать дядю с заплатой на штанах.
Я быстро оделся, побежал к Банковской. Показал ей телеграмму. Она села на стул посреди кухни, задумалась.
— Не знаю, стоит ли мне идти? — спросила тетя Надя, как бы сама себя.
— До поезда остался час, идти до вокзала через весь город,— сказал я ей.— Если сейчас выйдем, и то можем опоздать.
Тут она вскочила, кинулась к зеркалу, начала орудовать расческой. Надела новый жакет. А потом вдруг опять на табурет села:
— Нет, я, наверное, не пойду...
Вот женщины. Семь пятниц на неделе! Я сказал:
— Задерживаться мне больше нельзя. Извините! — и выскочил в дверь. Только до Ушайки добежал, слышу сзади топоток. Оглянулся — тетя Надя бежит. Запыхалась. Я пошел шагом и все боялся из-за нее опоздать. Но пришли мы на вокзал рано, до поезда оставалось еще целых полчаса. Я стал оглядываться по сторонам. На вокзале было людно. Сидели на грязных залатанных мешках изнуренные пассажиры. У кипятильника стояла длиннющая очередь. Какой-то дядька отхлебнул из чайника и заругался:
— Рази это кипяток! Чуть воду подогрели! Этому кипятильцику шею набить!
Кипятильщик, парнишка моих лет, высунул косматую голову в окошечко:
— Умный какой! Шею! Дров мне дают вязанку на смену. И все пьют и пьют день и ночь, как верблюды! Где ж я этой вязанкой накипячу воды на такую прорву! Подогрел, чтоб зубы не ломило, спасибо скажи…
И тут я заметил за столбом Витьку Кротенко. Он стояли смотрел в нашу сторону.
— А ты кого встречаешь? — спросил я его.
— Да так, никого, — немного смутился Витька.— Я к вам заходил, мне твоя мать сказала, что Петр Иванович приезжает. Любопытно взглянуть...
— Что ж, взгляни, — разрешил я. Понятно было, что Витька по отцу тоскует. Отец у него тоже на фронте, и, конечно, ему хочется, чтобы он поскорее вернулся. А нет — так хоть посмотреть, как другие домой приезжают.
Поезд подошел к станции, мы стояли на перроне, и вдруг тетя Надя закричала и ринулась к подножке. Тут мы тоже заметили дядю Петю в тамбуре вагона. Я сначала подумал, что он стал на коленки. Для чего это? Но тут же я понял, что он вовсе не на коленках стоял,— у него нет обеих ног, а на руки надеты на ремешках маленькие брусочки.
Я немало уже видел в Томске инвалидов, которые передвигались с помощью таких брусочков. Мне было их жалко. Но то — чужие люди. А это мой дядя, мой героический, храбрый, драчливый дядя! Нет, это ошибка, это сон, этого не может быть! Я зажмурился. Вот сейчас открою глаза, а дядя спрыгнет с подножки и подойдет к нам своей матросской, чуть враскачку походочкой. Я открыл глаза, но все осталось по-прежнему. И тетя Надя с каким-то военным помогли дяде слезть на перрон. Тетя Надя целовала дядю, плакала, а мне хотелось бежать, бежать, куда глаза глядят.
Дядя поманил меня пальцем:
— Ты что же, племяш, вроде моему приезду не рад? И где же фаэтон, я же заказывал, телеграмму давал.
Я сказал, что очень рад его видеть. А фаэтона нет. И тут я подумал о том, как же теперь дядя будет добираться до дому? Не на брусочках же ему скакать? Автомашин на вокзале нет. Я смотрел на привокзальную площадь, но и там не было никого транспорта. Хоть бы один какой-нибудь крестьянин с телегой появился. Но теперь и в колхозах лошадей почти нет, на коровах пашут, а в городе лошадь раз в году встретишь и то случайно.
Я увидел у вокзала высокую худую девушку, она стояла ко мне спиной, и плечи ее мелко-мелко тряслись. Она обернулась, и я узнал Верку Прасковьеву. Она с ужасом смотрела на моего дядю и рыдала.