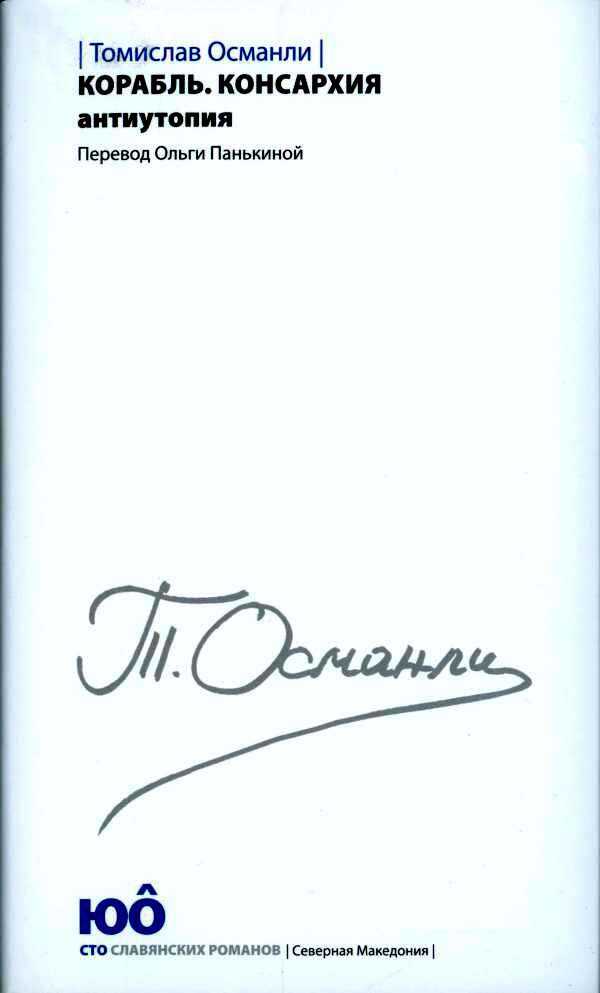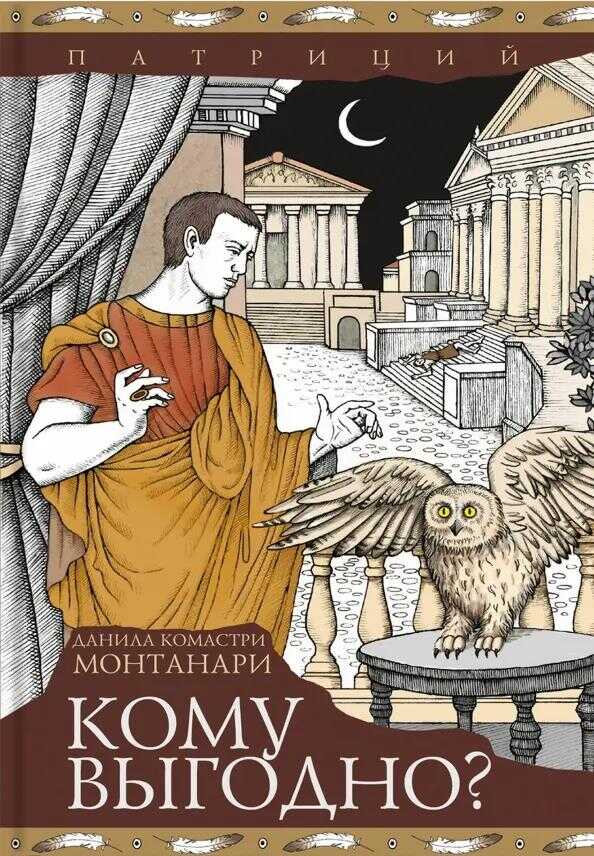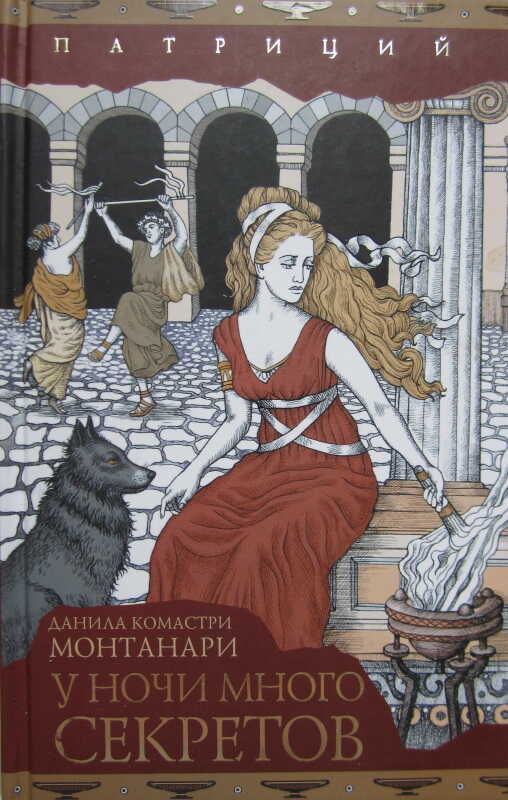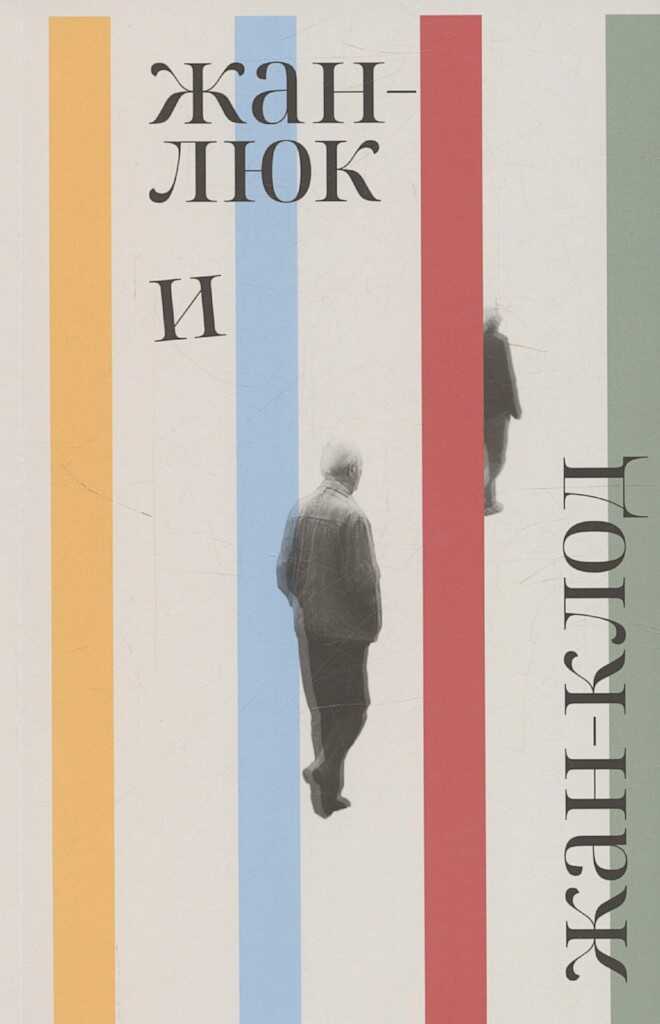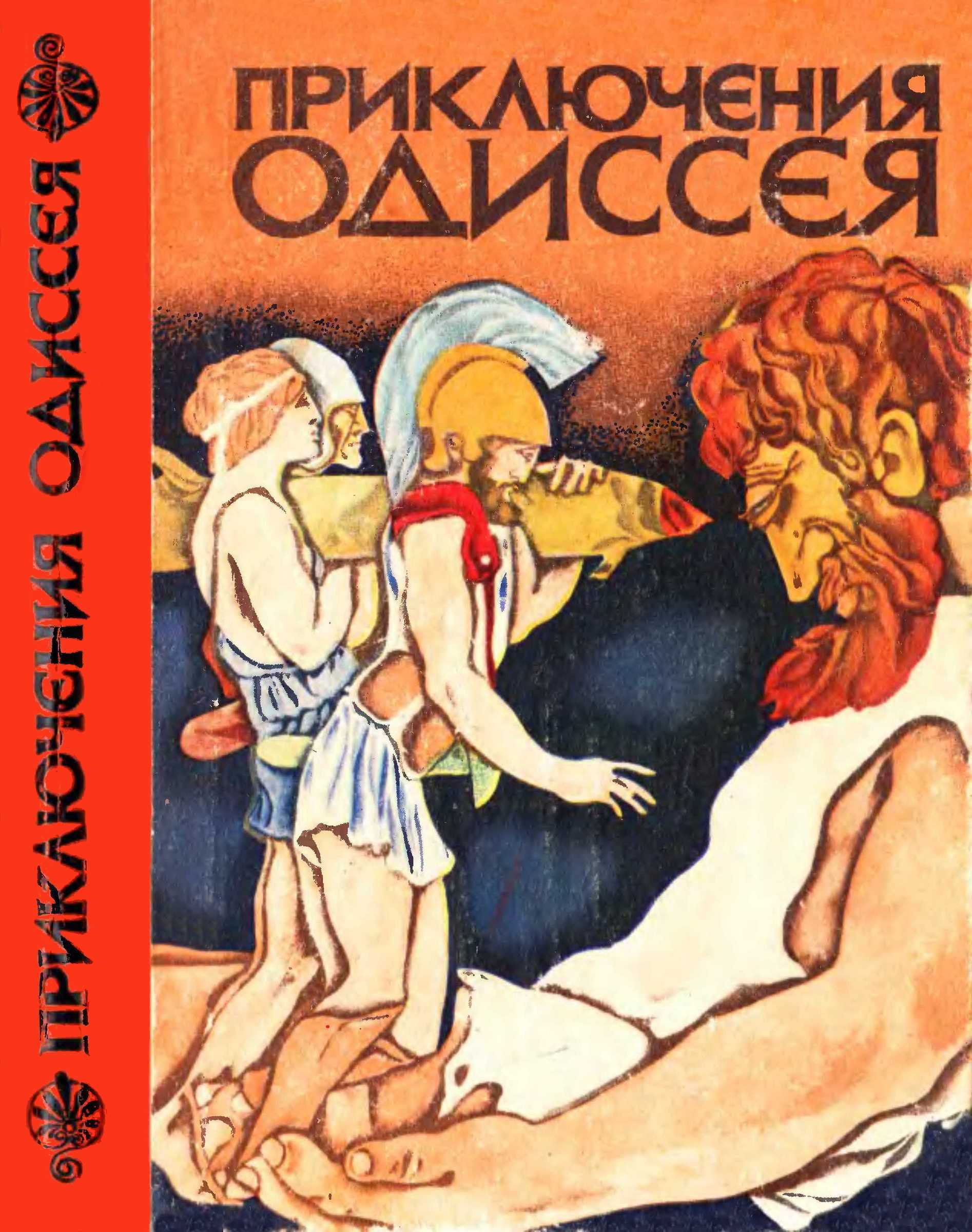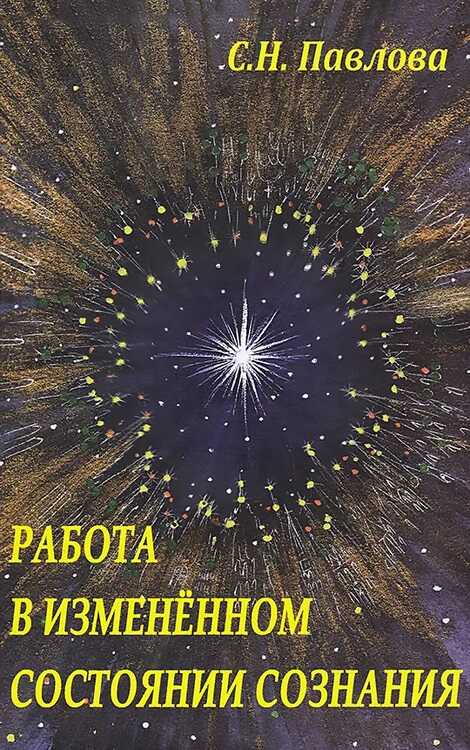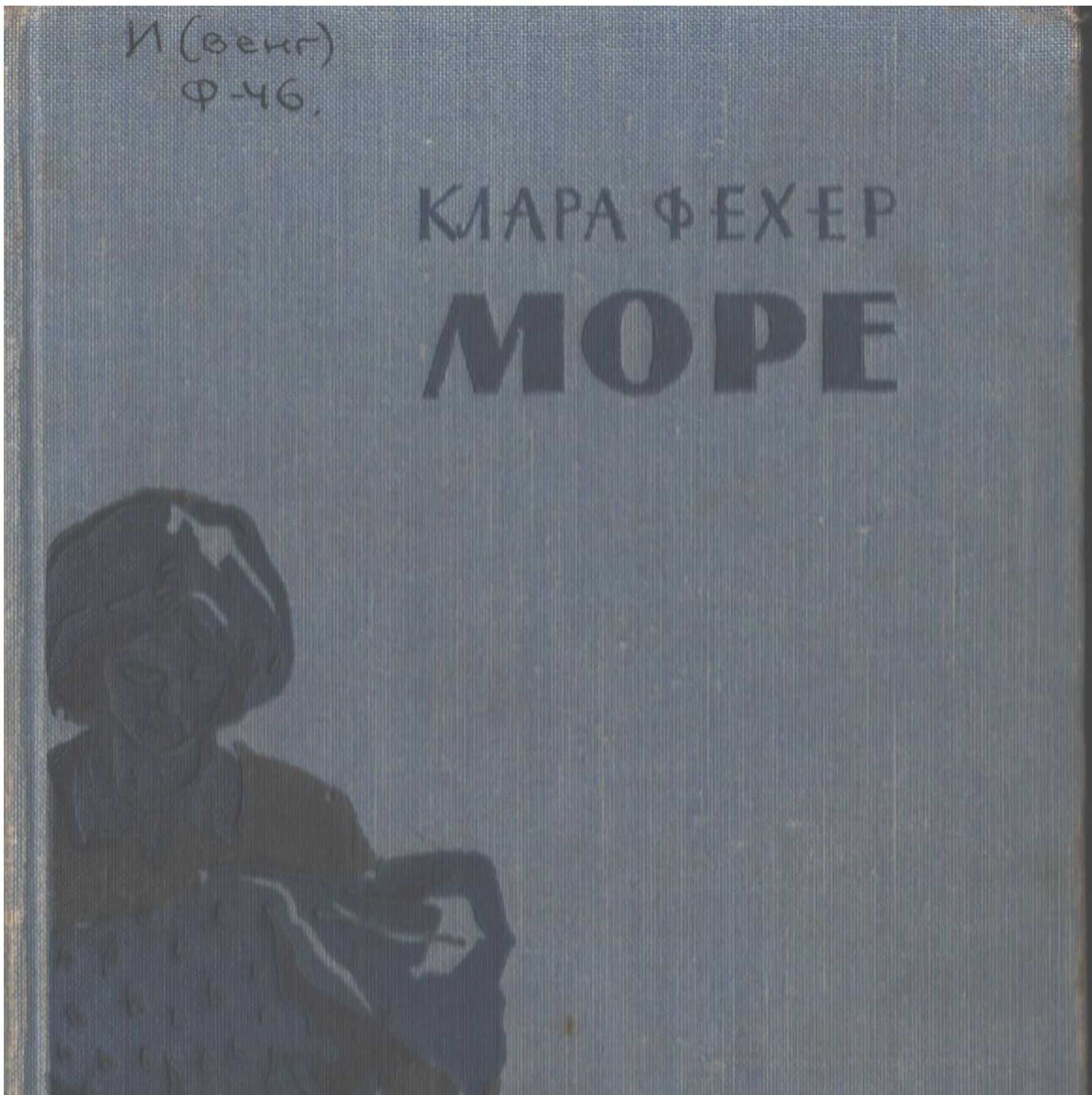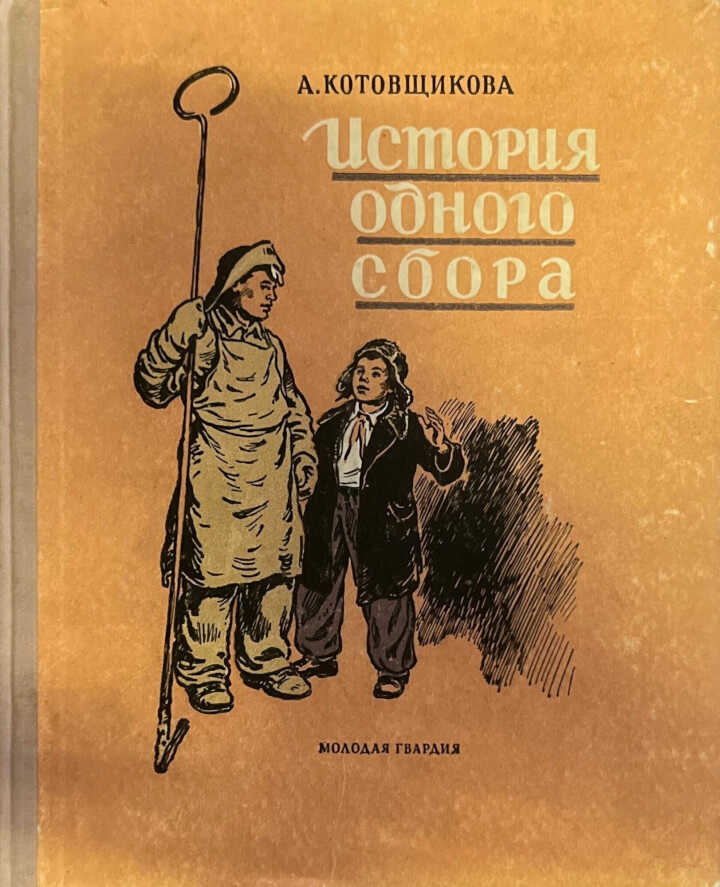стали поднимать прохожие, говоря: «Иди домой».
– У меня нет дома, – отвечал я им.
– Иди куда хочешь, – говорили они, – не лежи в луже.
Я поехал на Ярославский вокзал, сел в зале ожидания и стал смотреть, как люди берут билеты в другие города.
Там нашла меня Катя.
13
– Все ты врешь, – сказала Римма, – и дело твое дрянь.
– Гроб на колесиках? – спросил я.
– Нет, с музыкой.
– Почему?
Она лежала, заложив руки за голову, и ее локотки остро выступали в разные стороны. Лампа с бумажным абажуром мягко освещала щеку и нежное ее горло.
– Почему? – снова спросил ее я. Ей, видно, нравилось, что я нервничаю и злюсь, и она медлила с ответом.
Тогда я сунул руку между матрацем и стеной, вынул оттуда обломок лыжной палки. Лицо ее сделалось серьезным, даже немного обиженным. Она придирчиво осмотрела этот обломок с расщепленным концом с одной стороны и с железным шипом на другом. Коснулась пальчиком острого конца.
– Это ничего еще не доказывает, – сказала она, – ничего ровным счетом не означает!
– А разве что-нибудь требует доказательств? – спросил я.
– Что не доказано, того нет, и не надо морочить голову! – ответила она. – Никому нельзя верить, сам говорил.
– Да, только себе.
– Никому – это никому! – сказала она раздельно. – А себе тем более.
– Как же тогда быть?
– А ты подумай, – сказала она, хитро прищурившись.
– Я тебя не понимаю! – отчего-то разволновался я.
– Все просто. Если ты пил чай, то осталась чашка, покурил – окурок, погулял – грязные ботинки. И так во всем. Только надо быть в этом аккуратным.
Я провел пальцем по ее губам, по подбородку, съехал по ее шее вниз. Платье у нее спереди была застегнуто на множество очень мелких пуговичек темно-лилового цвета. Я отсчитал седьмую сверху, захватил ее в щепотку и резко дернул.
И пуговка эта осталась у меня в руке.
Она посмотрела вниз, где теперь между шестой и восьмой пуговками торчали одни лишь нитки, и спросила:
– А это зачем?
Я очень хотел есть. Это случается всякий раз после этого. Обычно я скрываю внезапное чувство голода, но Римма первая прошептала: «Сейчас бы пожрать…»
На кухне никого не было. Никто не ахнул, не спросил меня строго: почему без трусов?
Ничего такого из еды не было, одни лишь помидоры. Я взял их, сколько помещается в руки.
Красный помидорный сок потек по моему подбородку, по груди.
– Ну кто так ест? – без раздражения спросила Римма. Она-то ела аккуратно, двумя пальчиками держала помидор, а рот открывала так, как будто губы у нее в помаде и она не хочет пачкать помидор. – Ты очень неаккуратный! – со странным удовлетворением сказала она.
Оставшуюся треть помидора я швырнул в стенку, и там на обоях сейчас же отпечаталось мокрое красное пятно.
– Видишь след? – спросил я. – Он означает, что я ел помидор.
– Где моя пуговка от платья? – вспомнив, закричала она.
– Другую пришьешь!
– У меня таких больше нет, давай пуговку! – и она подхватила с полу платье.
Платье я отнял, швырнул куда подальше.
– Ну не думала я, что ты такой! – с восхищением сказала она.
Наступило утро, гремел в подъезде лифт, улица гудела машинами, наступил вечер, зажглись окна в доме напротив, окна погасли, наступила ночь, пришло утро, гремел лифт.
«Я всю войну тебя ждала!..» – пело радио.
14
«Ау! Совсем ты забыл друга Николая? Бывало, что ни день, то письмо, а то вдруг воды в рот набрал, ни строчки, ни привета…
Угадай, где я? Я под Уфой, в калмыцкой степи вожу грузовики! То-то, брат! Ты и ахнуть не успел, как я уж в другом месте. Не сидится мне спокойно, время такое, что сиднем сидеть не приходится.
Есть у меня здесь и задушевный товарищ – „ГАЗ ММ“ грузоподъемностью полторы тонны выпуска 1939 года, Горьковского завода имени Молотова.
Дни проносятся мимо, как километраж за окошком „ГАЗа“. В личной жизни я тоже на боку не лежу, есть у меня подружка на девятнадцатом кэмэ. Она замужняя, только для меня это не беда. Муж знает, но никак поймать нас не может. „Все знаю, – говорит. – Поймаю – убью!“ А я ему говорю: „Сначала поймай!“
Поймать меня не может никто, он это знает, злится, но ничего сделать не может.
Дружок мой захворал, глохнет у него мотор в самый неподходящий момент. Проверяю напряжение в катушке зажигания – есть. Подача топлива к карбюратору – есть. Жиклеры и фильтр карбюратора – в исправности. Компрессия двигателя – в порядке. А он глохнет.
Что, брат, посоветуешь? Муж советует мне отрегулировать дроссель и жиклер холостого хода. „Жене советуй, – говорю, – а не мне!“
Вот и сегодня заглох мой „ГАЗ“ в чистом поле, в калмыцкой голой степи. А тут, как назло, гроза! Первым делом я замаскировал „ГАЗ“, закрыл все, дающее блеск: фары, стекла и радиатор. Ветками и травой укрыл углы кузова, чтобы мой „ГАЗ“ не мог быть опознан с воздуха.
Сижу курю. Вокруг гроза, сверкает молния. „Только не в меня!“ – говорю. Как только сказал, так она и ударила.
Вспышка, боль в темечке страшная. Вижу, проявляются у меня древовидные знаки багрово-бурого цвета по ходу сосудов.
„Кто бы, – думаю, – закопал меня на время в землю?“
А вокруг никого. Где ты, моя подружка? Где же ты, ее муж? И ты, мой друг Алексей? Прощайте и знайте, что испепелен я молнией в калмыцкой голой степи под Уфой.
Теперь о деле! Надо бы, Алексей, глянуть в один альбом с фотографиями. Сделай доброе дело, успокой мое сердце! Есть там одна фотка – первого мая снимались, на демонстрации, в сорок седьмом году. Лёля с сестрой Тусей, одна девушка в беретке, инженер метро „Сокол“ Шульц, а тот, что в двубортном пальто, так то – Егоров.
Будь другом, посмотри, все ли у Егорова пуговицы на лацканах? Их должно быть четыре, по две на каждом лацкане. Посмотри и напиши мне, хоть открыткой для скорости, два слова, больше не надо, а то у меня душа не на месте, хоть и столько лет прошло. Вот такое у меня к тебе срочное дело.
Теперь – второе. Про эту самую Римму. Ты ее держись сторонкой, а то хуже будет! От нее одна погибель, я один такой случай знаю, будет время, напишу. Говори с прохладцей, чтоб она не воображала ничего лишнего, а знала бы свое место! Одно тебе о ней скажу: ой-ёй-ёй!..
Что я могу сказать о себе? Живу я хорошо, жизнь моя теперь южная, безмятежная. Я в Анапе, на пляже. Днем выдаю лежаки, а по вечерам у меня свой сарайчик есть. Отвык я, брат, от штанов, будто и не носил их никогда! Незачем они здесь человеку. Солнце, воздух и вода!
Только случилась со мной, брат, беда! Потерял я кепочку. А без нее перегрело мне нынче голову. Еще с утра меня стало тошнить, слышимость плохая, как сквозь вату. В обед два раза вырвало. А к вечеру пошла носом кровь. Вот тебе и Анапа! Главное, где же я кепочку обронил, жалко мне ее очень, один дружок подарил…
Фельдшерица суетится, пузырь со льдом мне на темечко кладет, а все без толку. Говорит: „Ой, гиперемия! Ой, дыхание Чейна-Стокса!“ – а это, брат, серьезно. Лежу я себе и смотрю в море, вот вдали белый парус, чуть-чуть его видно, еще немного – и исчезнет. Нет, видать еще, беленького. Фельдшерица плачет, глаза мне закрывает. Чему их, бестолочей, только учат на медицинском?
Вот и все. Скажи Наташе, чтобы она на меня не обижалась, что я всегда о ней по-хорошему думал. Сына Борю обними за меня, скажи ему, что отец его убит солнечным ударом на Черном море.
Прощай, Алексей!