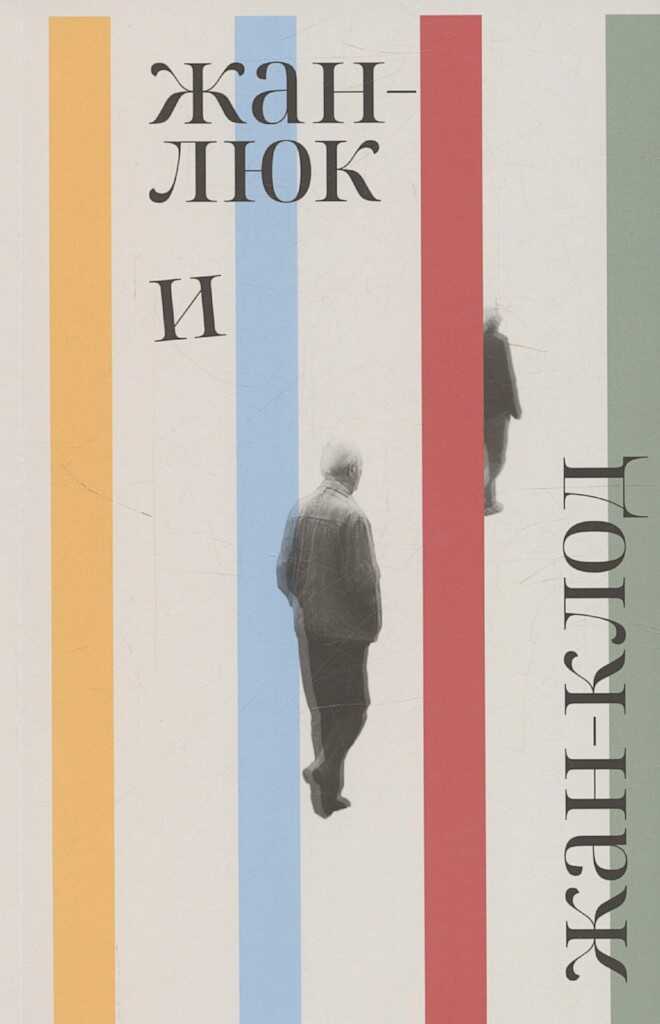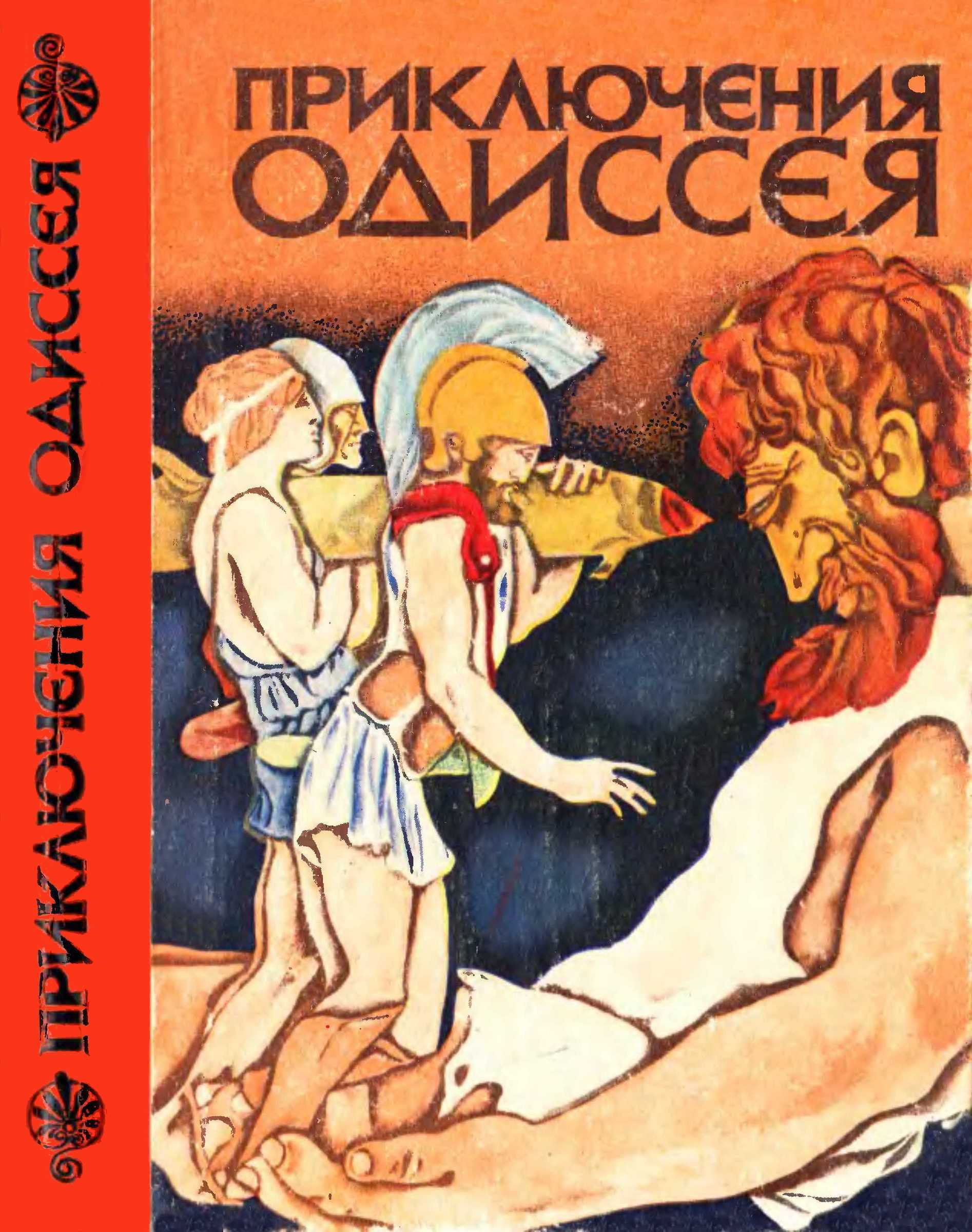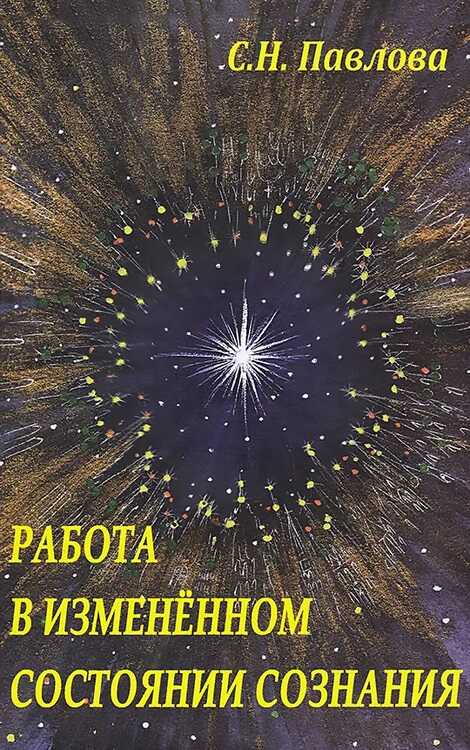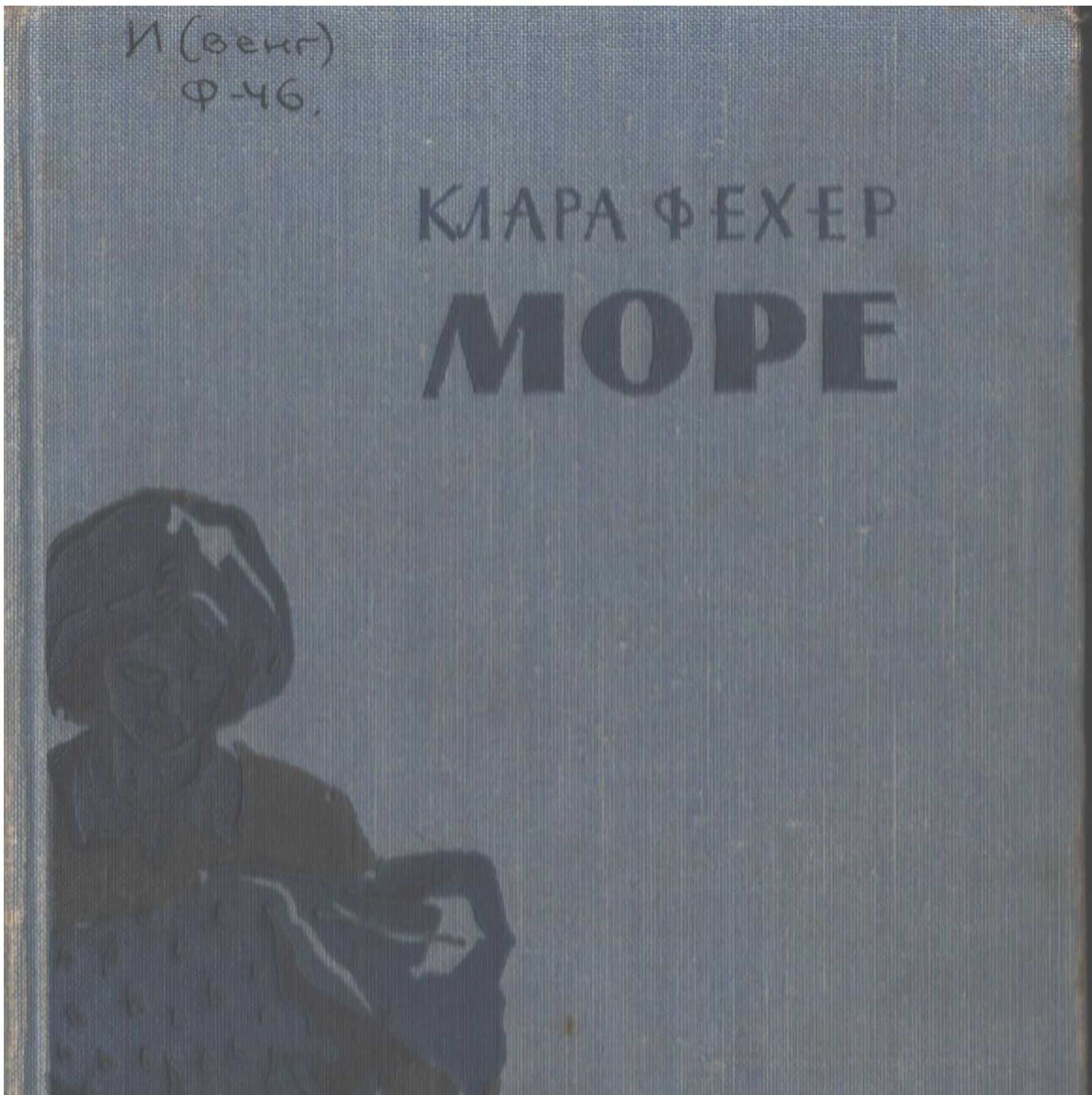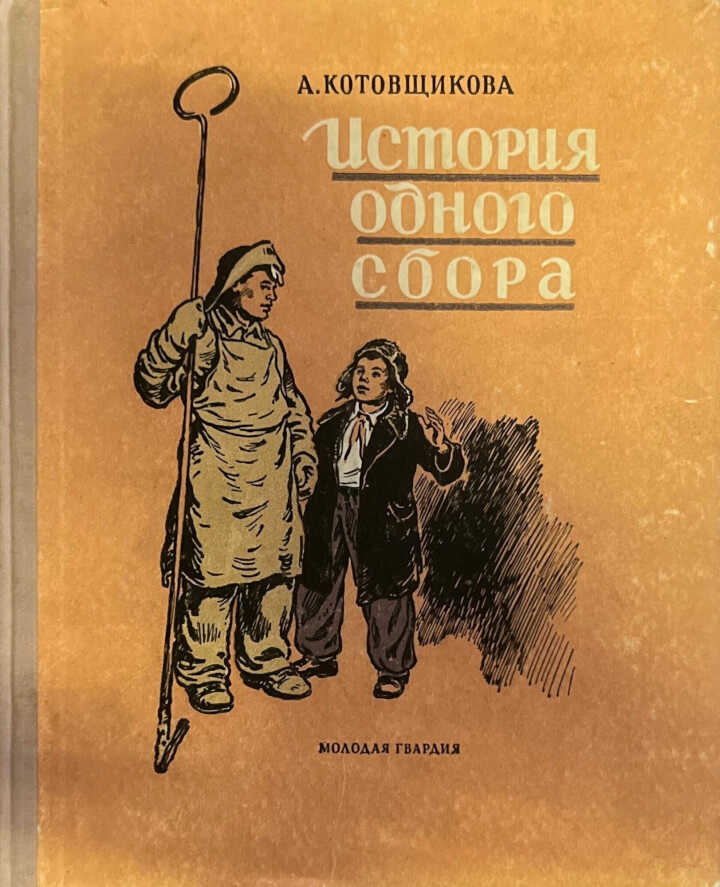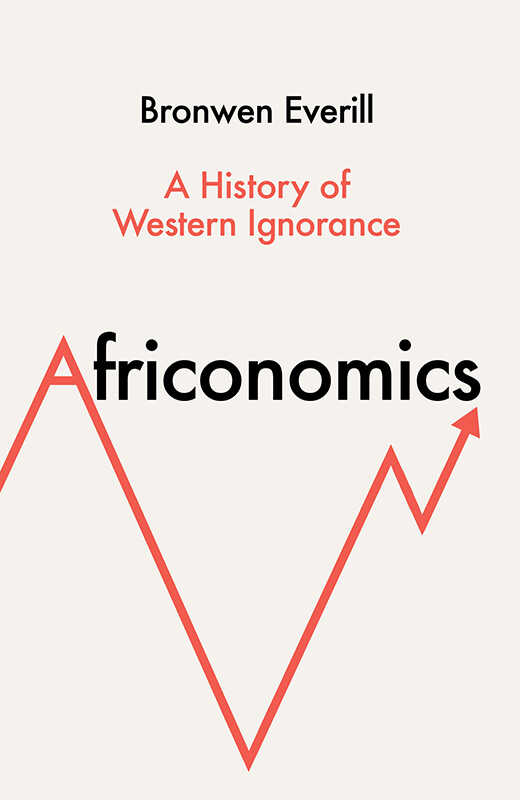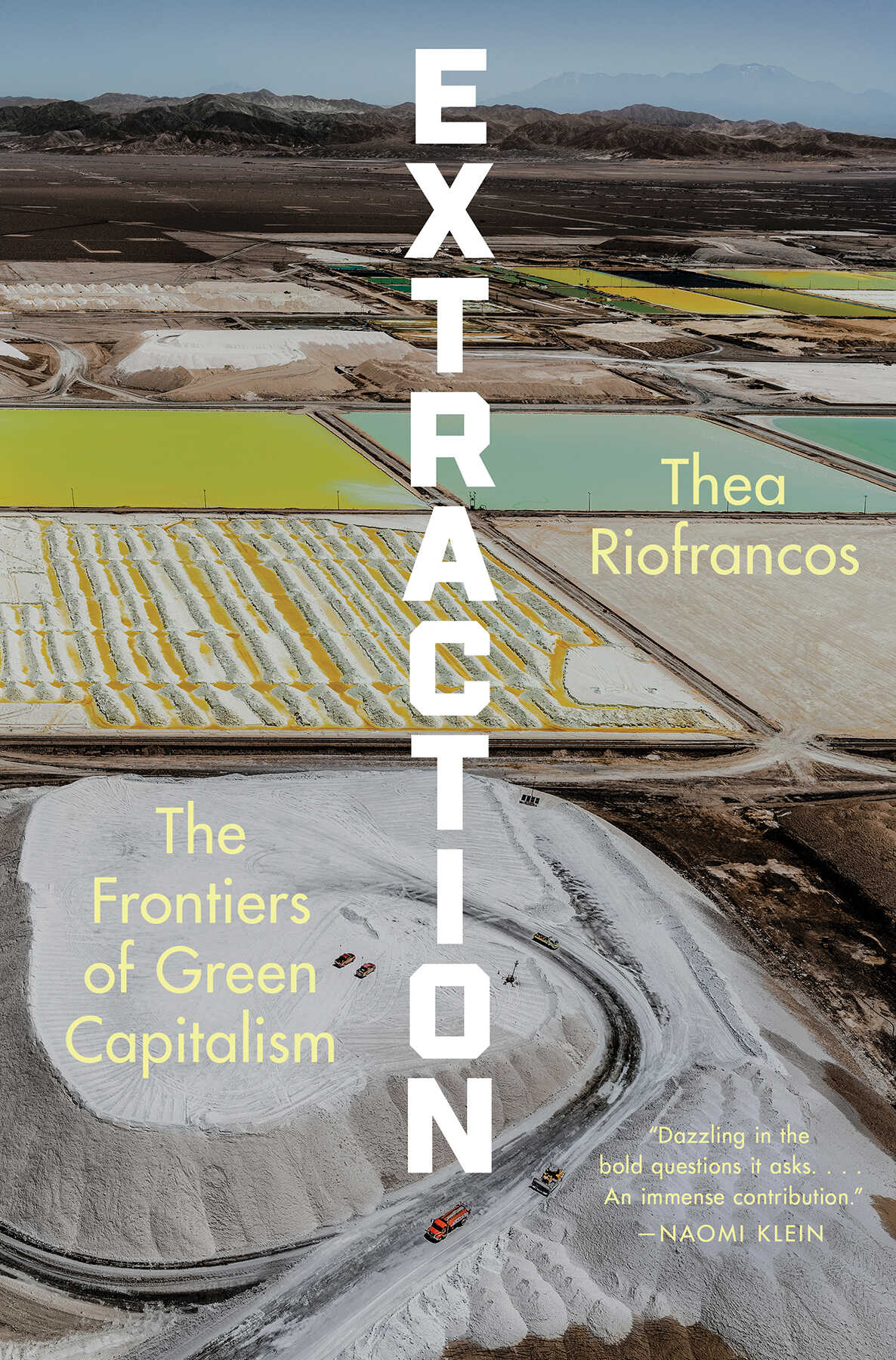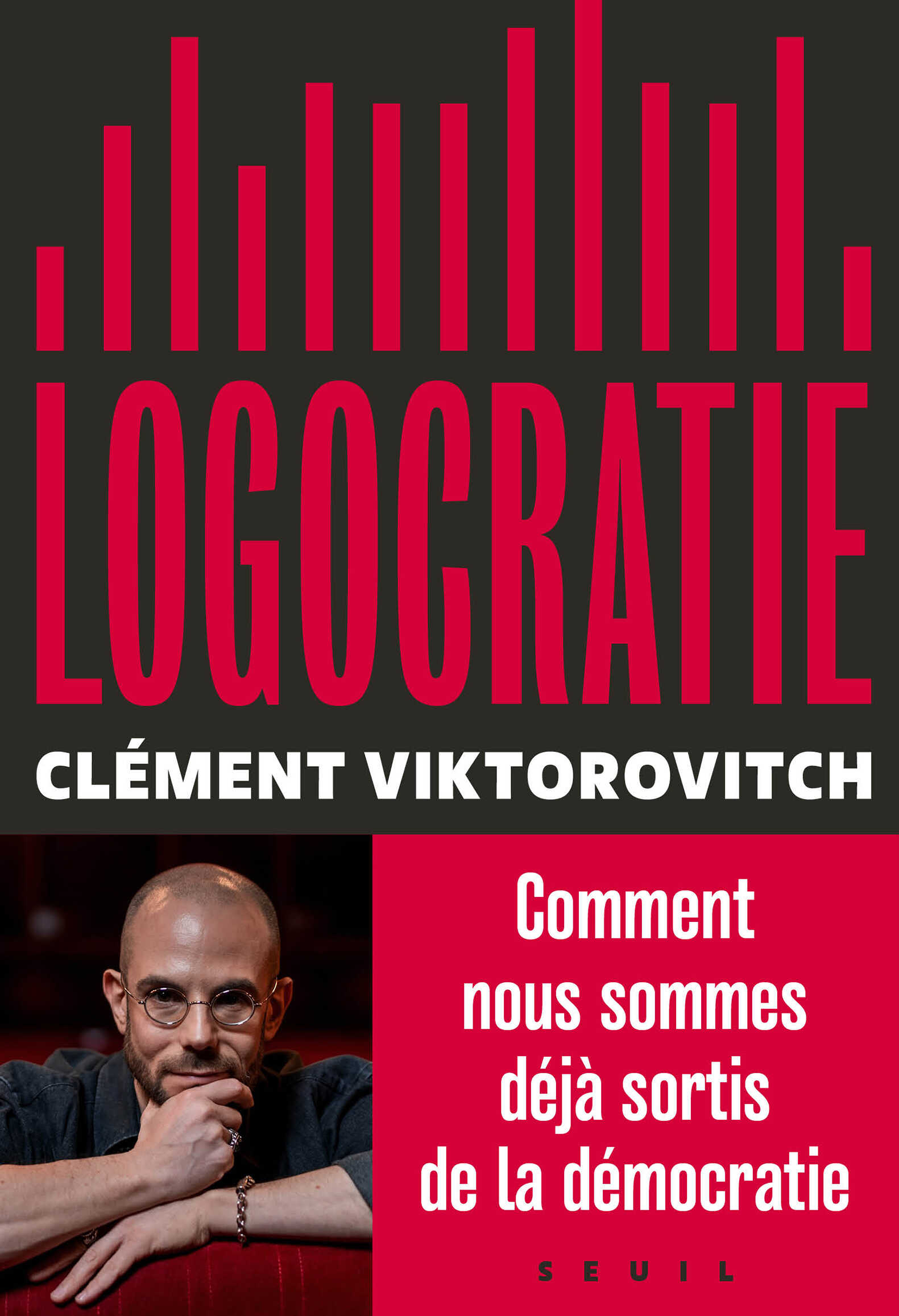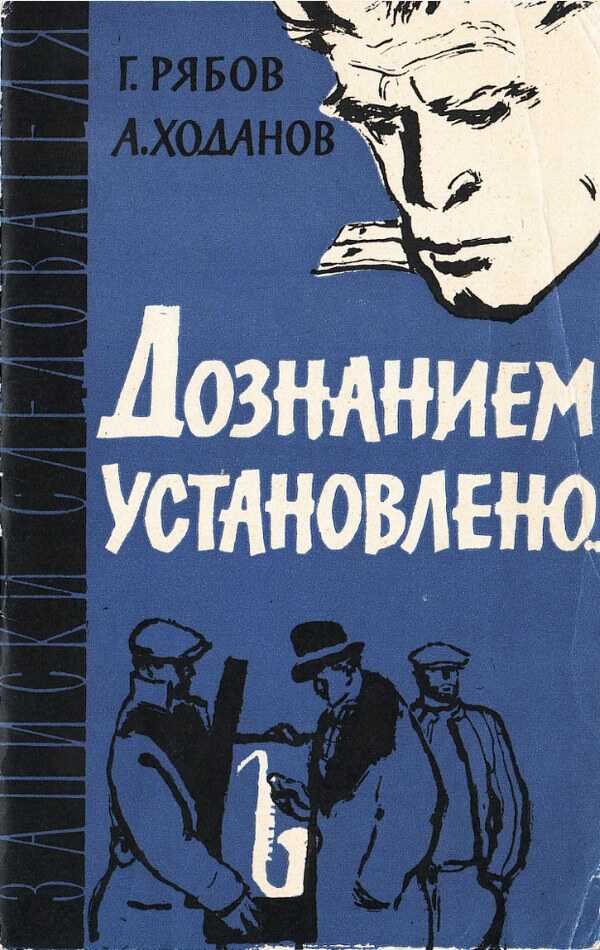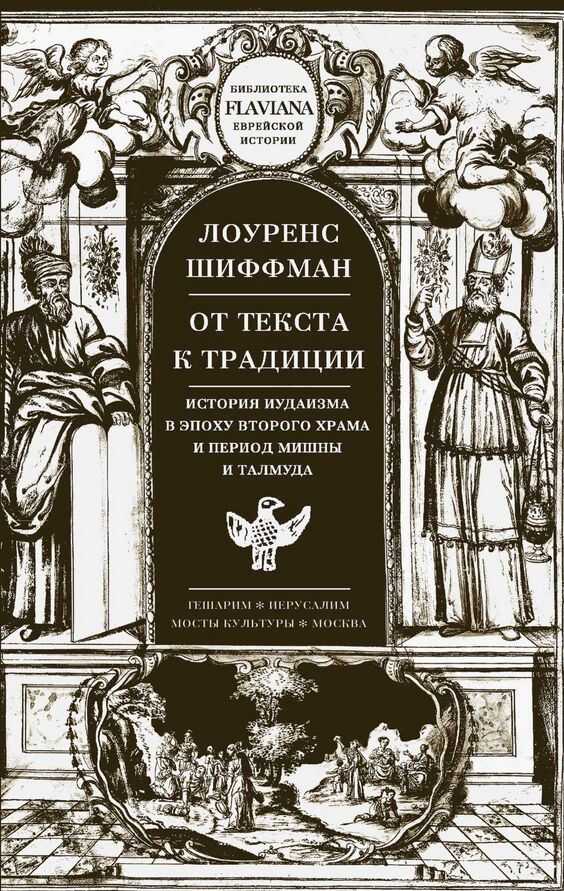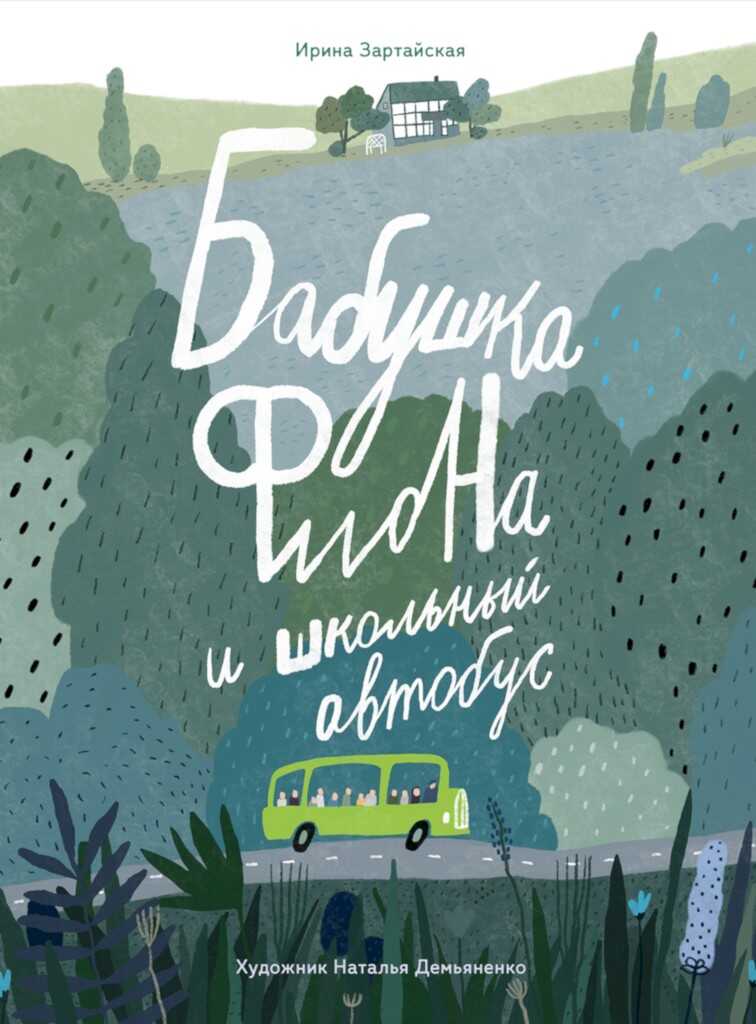видно лицо скряги, когда он, шлепая по щиколотки в вине, причитая и хватаясь за голову, мечется по погребу, стараясь выловить плавающие затычки и заткнуть винные фонтаны… Но совсем уж темно в той части погреба, где стоит огромный деревянный пресс. Спереди на раме, торчащей широко в обе стороны, чернеет надпись: «Георгиус Пантшуха, 1781». И ничего почти нельзя было разглядеть, когда правнук этого древнего винодела перекидывал через балку прочный и длинный шланг. Ничего нельзя было разглядеть — свеча погасла, догорев до конца…
Штефан Червик-Негреши отзвонил вечерний час и спускался со звонницы, когда из дома Панчухи выбежала насмерть перепуганная женщина. Она не плакала — выла, завывала как умалишенная! Потащила сторожа обратно.
— Шимон помер, звоните! — крикнула она.
Негреши, ужаснувшись в душе, дернул за веревку, и колокол отозвался двойным горестным вскриком. Старик потянул второй раз, и снова прозвенело два скорбных удара.
— Повесился, бедняга… — рыдая, еле выговорила Серафина.
Негреши перестал звонить, привязал веревку к балке.
— Что ж не звоните?
— По самоубийце?! — с возмущением отозвался сторож.
Серафина — женщина решительная. Оттолкнула Негреши, зашарила в темноте, ища веревку. Негреши вытащил нож, поднялся по лесенке и под самыми стропилами перерезал веревку от колокола. И поплелся по деревне — возвещать печальную весть, уже третью за этот день. Но такой вести, как последняя из трех, еще не доводилось слышать волчиндольцам.
Все это происходило в понедельник. В день, сырой и туманный. В среду погода была ничуть не лучше — даже, казалось, еще больше испортилась, потому что густой туман оседал мелкой изморосью. Первым, утром, отправился из Волчиндола огромный гроб с телом Павола Апоштола, — его везли вороные жеребцы Большого Сильвестра. Затем, пополудни, тронулась в Зеленую Мису упряжка волов легионера Франчиша Сливницкого — с гробом легионера Оливера Эйгледьефки. А вечером уже, когда совсем стемнело, от дома, что стоит на границе между Волчьими Кутами и Конскими Седлами, двинулась тележка с тем, что еще в понедельник было Шимоном Панчухой. Тележку вез Иноцент Громпутна, а следом, тихонько воя, шла Панчухова вдова.
Ночью поднялся ветер, разогнал туман, к утру немного подмерзло, и когда взошло солнце — повысыпали из домишек люди, радуясь, что весна идет…
УЧЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Еще в начале мая стало точно известно, что третий курс Сельскохозяйственной академии в Восточном Городе поедет в середине месяца на экскурсию в Чехию. Предполагалось вначале, что экскурсию возглавит профессор Стокласа — он же Нониус, — вероятно, вместе с другим профессором по прозванию Попрыгунчик. Замечательно! Богатые шалопаи чуть не прослезились от радости. Они без передышки ковали настоящие поджигательские планы покорения Чехии, планы, полные звона пивных кружек и танцевальных мелодий в разных девичьих школах домоводства. Один Марек Габджа оставался невозмутим, как будто все это его не касалось. Однако в конце концов зажегся и он, как только узнал, что экскурсия посетит некий чешский городок, откуда, кстати, к нему каждую неделю приходят письма! Правда, волнение его никак не проявилось внешне. Многое в жизни пришлось ему перенести — ой-ой-ой! Но никогда еще не болело у него сердце так сильно, как теперь, когда товарищи его, получив деньги от почтенных родителей, на его глазах отдавали Нониусу в начале уроков по триста крон!
А Нониус, пряча студенческие денежки в бумажник, всякий раз поглядывал на Марека, причем трудно сказать, с каким выражением — то ли сочувствия, то ли злорадства. И вслед за ним на Марека обращались взоры всей аудитории. Марек чувствовал себя так, будто его жалили осы, но сидел спокойно. У него было достаточно времени и возможности научиться носить маску. По крайней мере никому не взбредет в голову возмущаться тем, что он осмелился учиться в академии «на казенный счет», или, не дай бог, жалеть его за то, что у него сердце болит из-за безденежья.
Сегодня пятница, экскурсия начнется в понедельник. И вдруг Габджу, к его собственному удивлению, вызвал из класса почтальон. Как же так, он ведь не писал домой насчет денег… Его прямо бесило то выражение сочувствия, с каким товарищи и Нониус проводили его до двери. Но когда он вернулся, ни товарищи, ни преподаватель не нашли на его лине ни следа улыбки. Этого было вполне достаточно, чтоб они перестали обращать на него внимание. Быть может, если б они посмотрели получше — не на губы, а в глаза, которые никогда не лгут, или прямо в сердце его, которое и подавно не умеет притворяться, — быть может, все они вскрикнули бы, приятно пораженные… Товарищи думали было добровольно сложиться, чтоб Марек мог поехать с ними. Они его любят, ведь Марек Габджа украшение третьего курса. В области духовных ценностей они, строго говоря, живут только им, только его неисчерпаемыми и непрестанно умножаемыми знаниями. Однако студенты прекрасно знали, что Марек не примет от них подачки, и потому ожидали, что и в этом году, как в предыдущие годы, вопрос решит сам Углекислый Кальций, что в последнюю минуту он войдет в аудиторию и скажет: «Марек Габджа поедет на казенный счет».
Однако в этом году все складывалось иначе. Это было заметно хотя бы уже по ответу Марека, когда Нониус вызвал его к доске отвечать на самый трудный вопрос — о наследственности у животных. Говоря по правде, аудитория не очень-то стремилась к знаниям такого рода: для богатого шалопая наследственность — понятие чуть ли не астрономическое. Один за другим студенты признавались Нониусу, что они тогда хорошенько поймут законы, открытые патером Грегором Менделем, когда Нониус еще раз объяснит их, да сделает это повеселее. Нониус оказался на распутье: то ли еще целый урок убить на «веселое» объяснение того, что для него самого представляет собой исключительную важность, то ли облегчить себе задачу и вызвать Марека.
Он вызывает его не часто. Все равно лучшей отметки, чем «отлично» поставить он не может, а инспектор заглядывает в академию лишь раз в году. Но сегодня, вызвав Марека к доске, Нониус услыхал такие вещи, которые и не думал читать в этом учебном заведении. Он был поражен и не мог понять: откуда Габджа взял все это? Пояснения Габджи имеют не только начало и конец, но и довольно пространную середину, до отказа набитую подробностями. А главное — рассказывал он весело! Захваченный красноречием Марека, его остроумными рисунками на доске, не только оригинальными, но и простыми, Нониус не заметил, как в аудиторию вошел директор Котятко — Углекислый Кальций. Он не видел, как директор сделал знак студентам, чтоб не вставали, и тихонько сел на место Габджи.
— Из каких источников вы все это узнали, ведь это уже университетская


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)