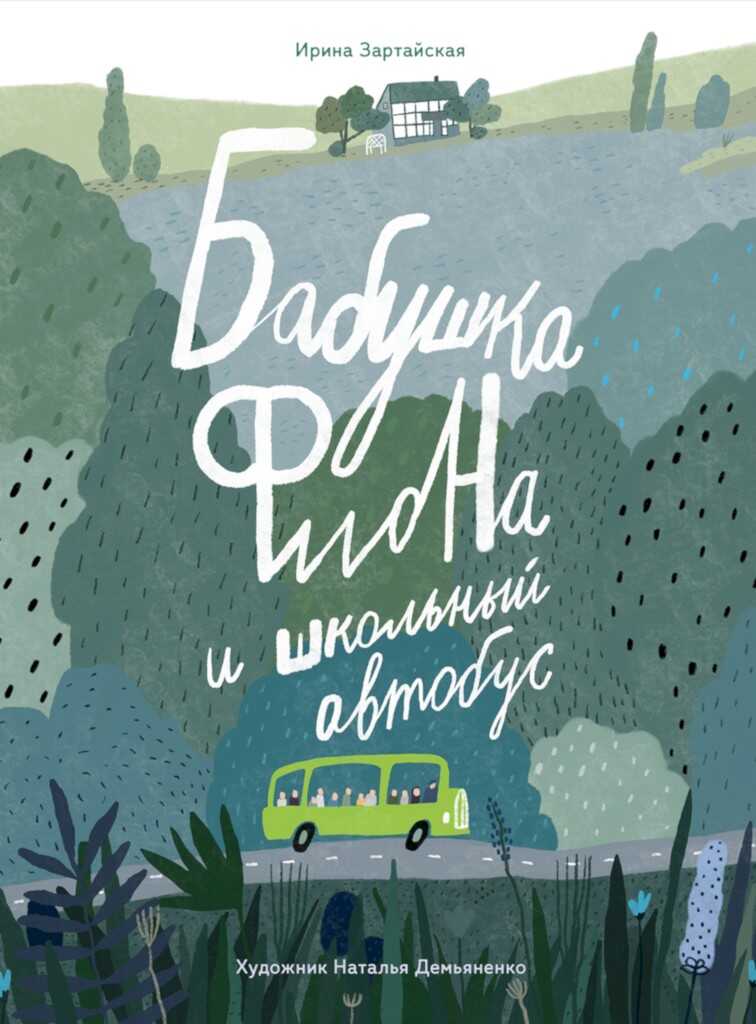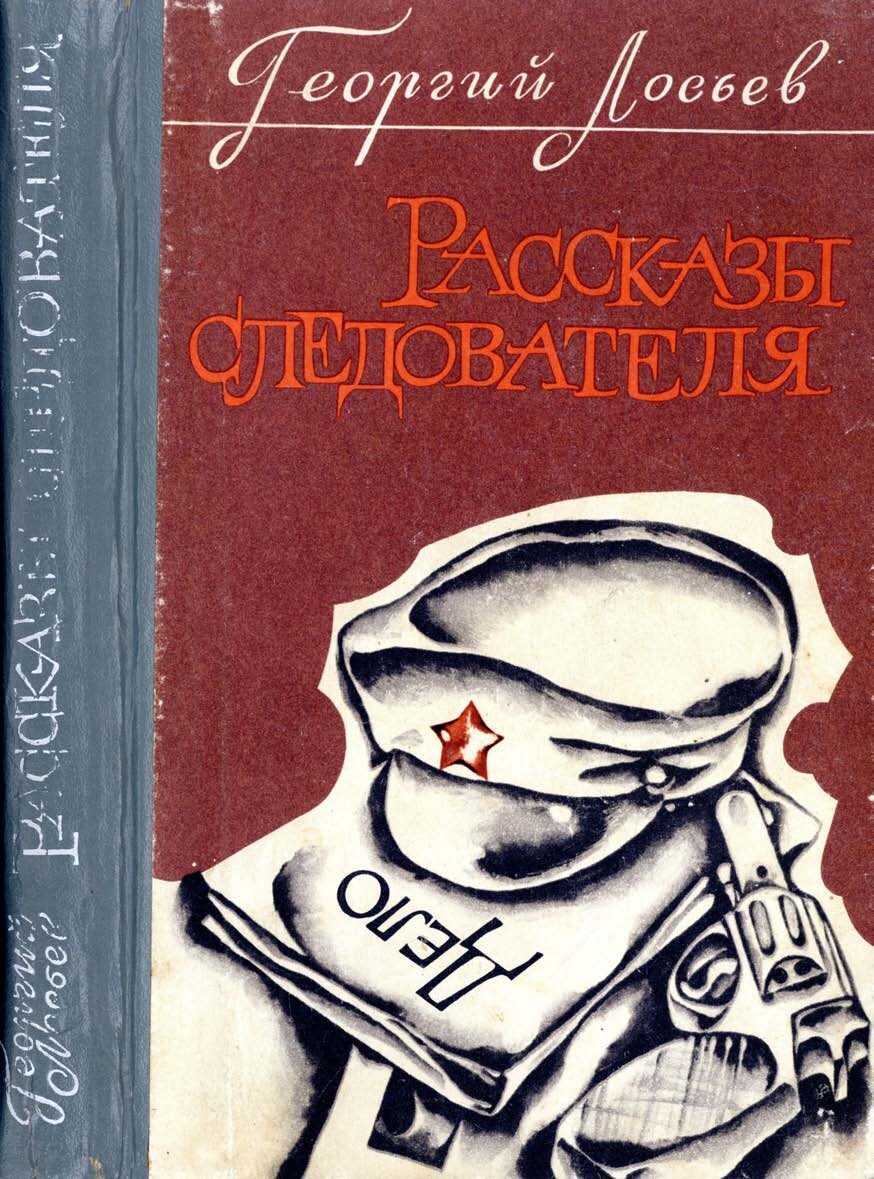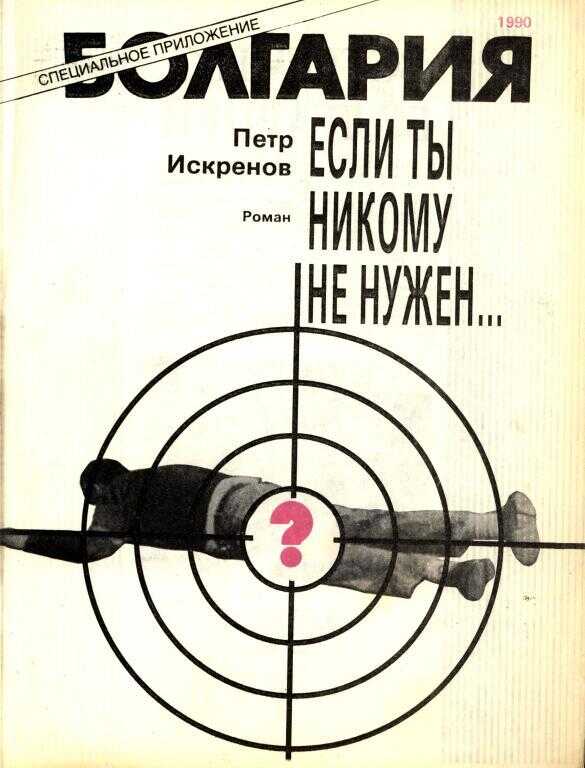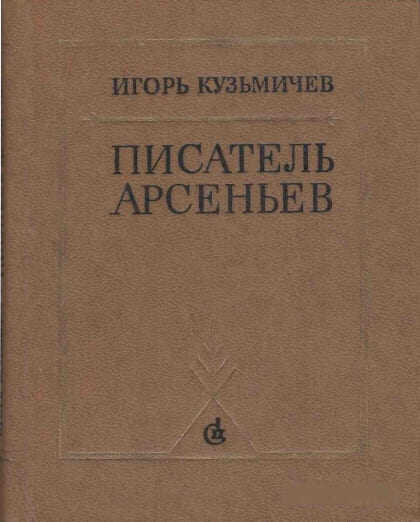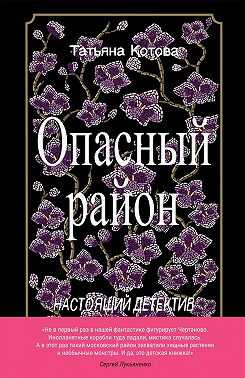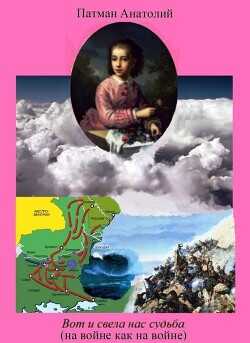разгоряченные вином, отважно запели в сопровождении скрипки и гармони, — так запели, что стены задрожали:
Помнит, вспоминает
и не спит ночей.
И никто не знает,
как хочу я к ней.
Дверь со стуком распахнулась, в «рабочий зал» ворвался заместитель командира полка, злой как черт. Остановившись посредине, ослепленный гневом, он взревел, как только в состоянии взреветь человек в звании капитана:
— Безобразие! Негодяи! Завтра же все к «рапорту»! Насидитесь у меня в карцере! За что? Не за то, что вы тут винище жрете, а за эту песню!
Все вытянулись перед капитаном. Лишь один кто-то не обращает на его крики никакого внимания. И сидит этот человек боком, его не разглядишь…
— Интересно, когда этот болван соизволит встать смирно?! — взор капитана просто испепелял. — Хочет, чтоб я швырнул в него чем-нибудь? Ну, долго мне ждать?! — рявкнул он так, что задребезжали оконные стекла.
Подполковник поднялся, — даже он испугался голоса своего заместителя… И как только капитан залепетал слова оправдания, он снова приказал солдатам сесть и допеть песню до конца:
Где ты, моя мама?
В дальней стороне…
Телефонный звонок ворвался в песню. Харбула замахал рукой — он ничего не слышал. По тому, что он стал искать бумагу и карандаш, можно было заключить, что звонили с почты. Харбула принял телефонограмму молча, вопреки обыкновению — не повторяя слов. Положил трубку. Потом четко, как привык делать в своей немаловажной должности полкового ординарца, подошел к подполковнику, скосил глаза на Габджу, — чтоб тот знал, что дело касается его, — и выкатил грудь.
— Пан подполковник, докладываю, что сегодня у старшего сержанта Габджи…
— Что случилось? — быстро спросил подполковник, когда Харбула чуть запнулся.
— …скончалась матушка.
НЕГРЕШИ БЕССМЕРТЕН
После смерти Кристины Габджовой домик с красно-голубой каймой весь пропитался унынием. Ходики с кукушкой, висевшие в простенке, остановились сразу после того, как покойницу понесли на кладбище. Деревянный маятник, почерневший от старости, вдруг отказался мерить время, будто потерял способность рассекать воздух, в котором плотно загустело горе. Магдаленка несколько раз пробовала раскачать его — пусть хоть тиканье часов говорит о том, что жизнь не кончилась, — напрасно: маятник качнется два-три раза, механизм проскрипит знакомым звуком — тик-так-тик! — и тут же остановится. Видно, и часам пришло время умереть. Быть может, нутро у них, как и все в доме, покрылось соленой влагой слез, а там схватилось и ржавчиной. Стоит ржавчине разъесть нутро самых прочных, самых падежных часов — и ничем тогда не поможешь…
Так и домик на дне Волчьих Кутов; домик с красно-голубой каймой болен, хоть снаружи и не заметно никаких перемен: в нем поселилась ржавчина. Магдаленка изо всех сил старается заменить покойную мать — ведь заменяла же ее долгие месяцы, пока мама лежала, и долгие годы, пока она прихварывала! — но работа не клеится… На что ни взглянет Магдаленка, что ни возьмет в руки — все, даже сам воздух, которым девушка дышит, казалось, было покрыто ржавчиной. Как тут проветришь, вычистишь дом, как выметешь за порог безнадежность… Целую зиму билась Магдаленка, чтоб отучить Адамка плакать; уговаривала: он уже большой, большому мальчику стыдно реветь… Но мальчуган до того слабонервный — только взгляни на него, и он заплачет. Уже исхудал, как щепочка, а горевать не перестает. Просто диву даешься, откуда берутся слезы в этом тельце, которое до того высохло, что, кажется, режь его — крови не выйдет ни капли… Тоска Адамка по матери приобрела уже какой-то болезненный характер. Плохо сделал, бедняжечка, что взял от родителей их самые худшие качества: никому не нужную чувствительность.
Магдаленка не такова. Она уже знает меру в той области, которая называется чувствами. Правда, Магдаленка совсем взрослая, девица на выданье, и настолько успела узнать жизнь, что умеет различить, где тот предел, когда лучше подчинить себе чувства и дать волю рассудку. Нет, Магдаленка не намерена выплакивать глаза по тому, чего не вернешь, когда можно стиснуть зубы и целиком отдаться работе, которой в доме накопилось по горло. А труд — лекарство. Это мостик, по которому люди переходят из вчера в завтра. И отсюда, с этого мостика, перед взором Магдаленки временами приоткрывалось то, что еще когда-то будет…
С дунайской теплой стороны пришла в Волчиндол весна, и Магдаленка всеми жилочками ощутила, как грешно было бы дать этой весне промчаться мимо без внимания… Все прожитые дни печали, толпившиеся вокруг нее копнами прелой соломы, разошлись теперь в стороны, открыли дорогу ей, растаяли в далеком мареве. Чтобы лучше видеть жизнь, вынесла Магдаленка из погреба, поставила на подоконники горшки с геранью. Через цветы в окошке легче ей разглядеть все, что сплеталось вокруг нее, образуя ближайшее будущее, — и оно, это будущее, виделось ей похожим на красную герань, выгонявшую из голых клубней новые почки, и листья, и цветы.
Зато отец ее, Урбан Габджа, слеп — хоть и видит, глух — хоть и слышит, бесчувствен — хоть чувствует остро. Он таков же, как дом, в котором живет: не в силах проветрить, очистить душу, подняться на ноги… Все он видит, и слышит, и чувствует, только никак не может от дум перейти к делу. Видит Урбан, как плачет Адамко, и утешает его, но до того неубедительно, что мальчик еще пуще заливается слезами. Слышит Урбан, как Магдаленка с приходом марта едва слышно начала мурлыкать песенки, и улыбается дочери, но улыбка выходит у него всегда такая скорбная, что песня замирает на губах девушки. Чувствует Урбан, что пришла весна, но невмочь ему приниматься за работу. Постоит на дворе, войдет в садик под тень деревьев, в виноградник забредет. Нутром чует — пора взять в руки ножницы, заняться обрезкой лоз… Не может. А от земли, едва отвалился февраль, уже поднимался пар. В такую пору, даже в самые трудные годы, какая-то сила выманивала Урбана из дому, гнала на работу. С Оленьих Склонов, с Конских Седел ветерок доносил до его слуха певучее звяканье виноградарских ножниц, — а он, первый виноградарь Волчиндола, затыкал себе уши и бежал топиться в ржавом пруду, каким сделался для него собственный дом. И сидел там безмолвный, устремив глаза на свои тяжелые руки, которым — впервые в жизни — не приносила радости работа. Урбан сидел, и жизнь его проходила перед внутренним взором, как будто лежал он в гробу.
Посмотреть на Урбана Габджу, на то, как сидит он, погруженный в горькие думы, — подумаешь, что Кристина унесла в могилу все его мужество. Могло и впрямь показаться, что слабая Кристина, падая в


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)