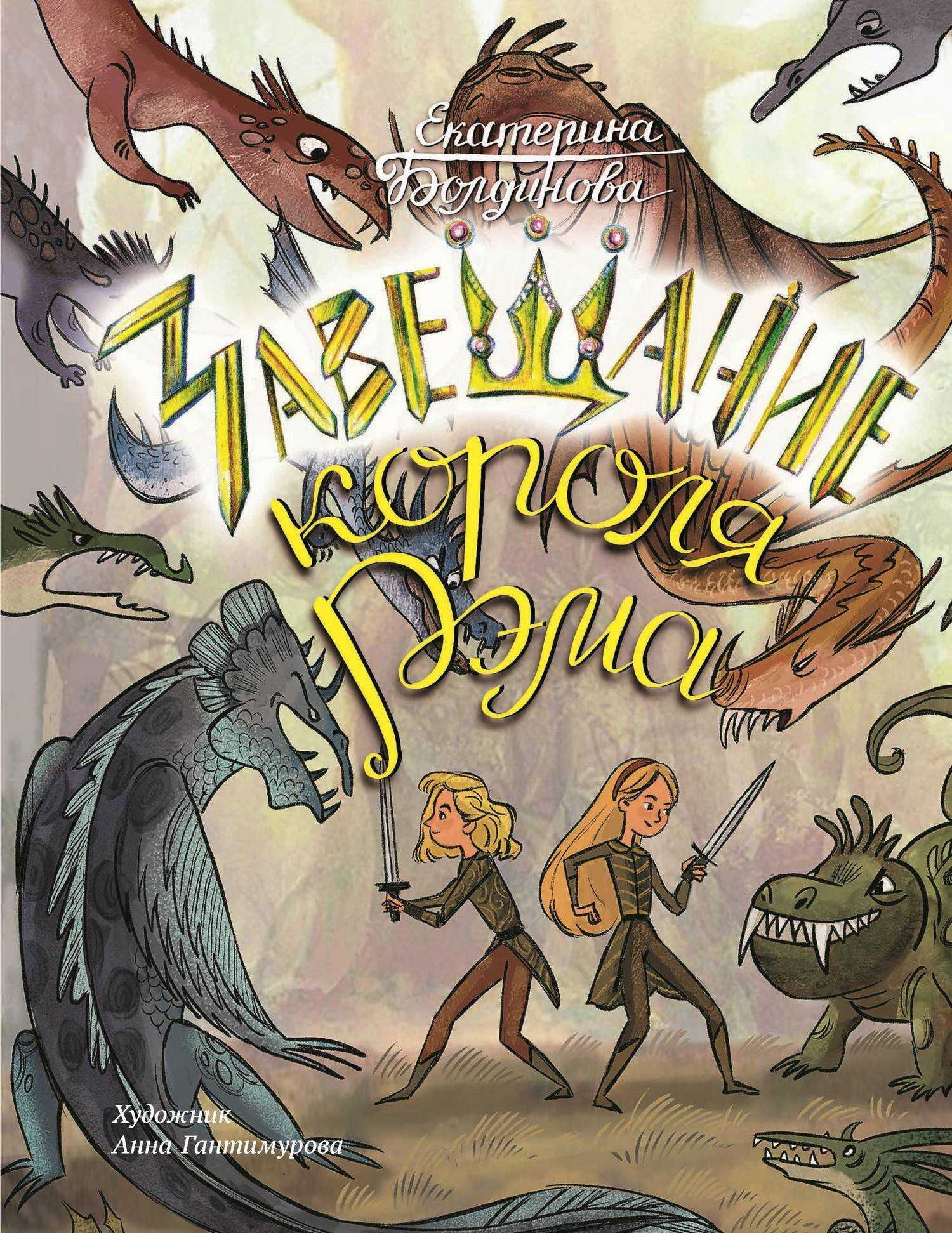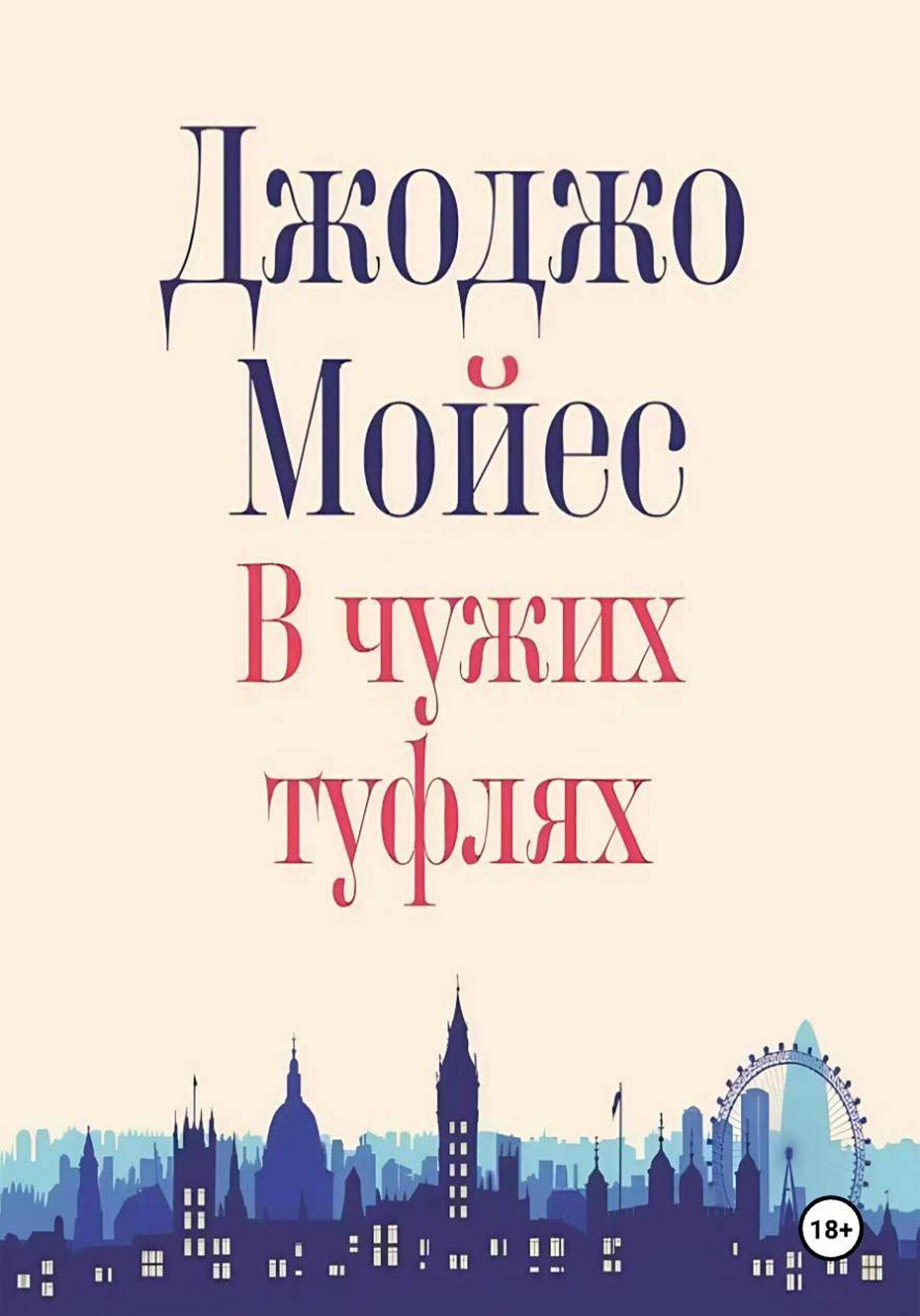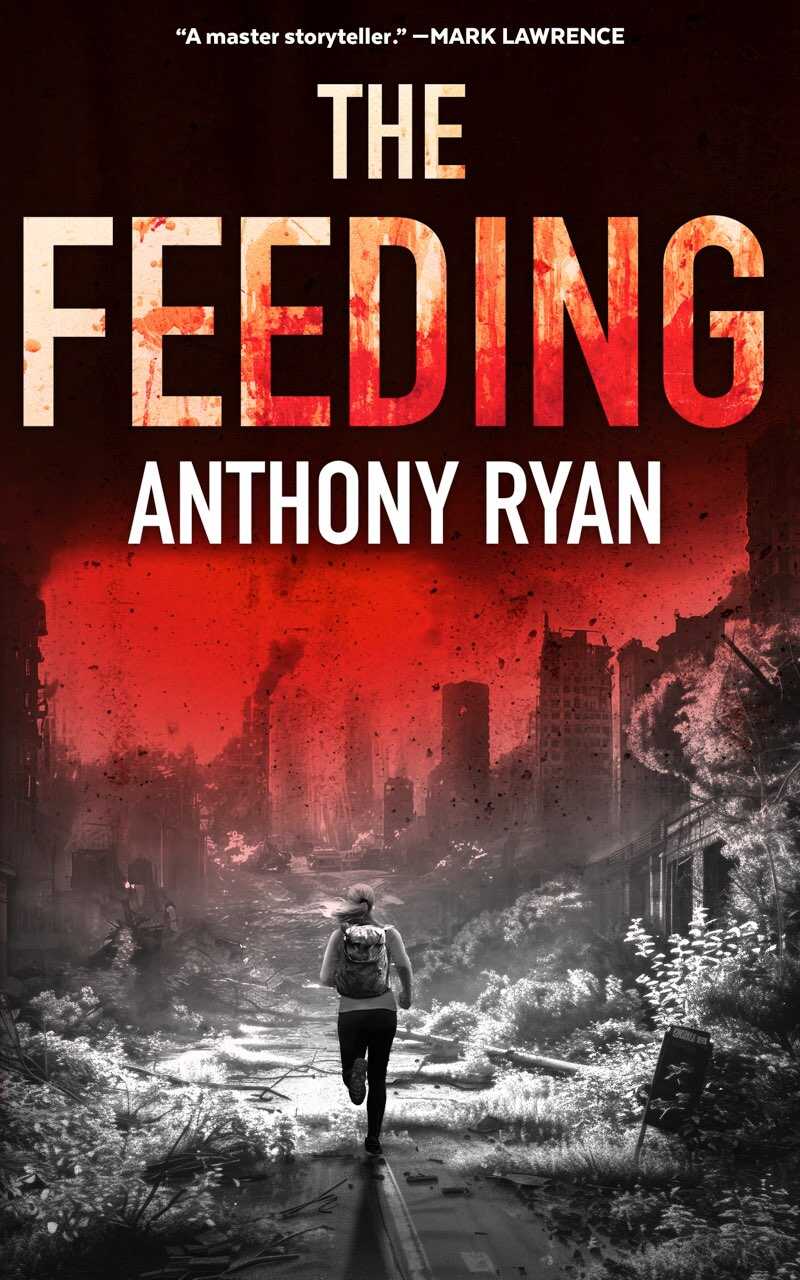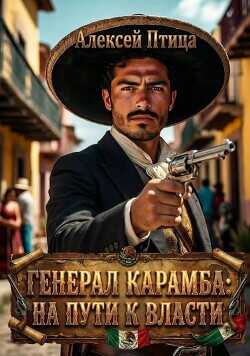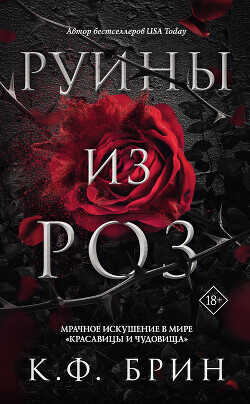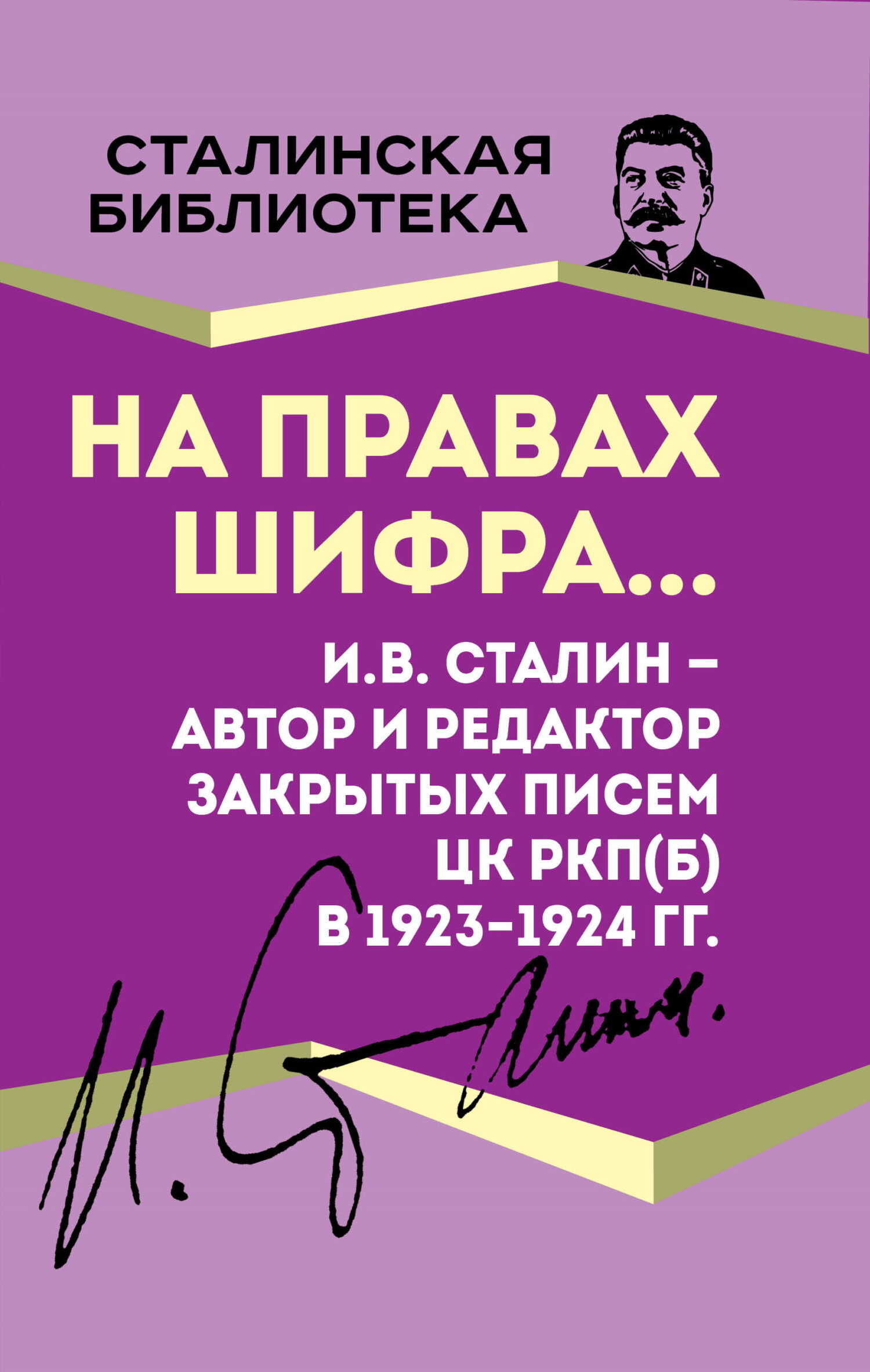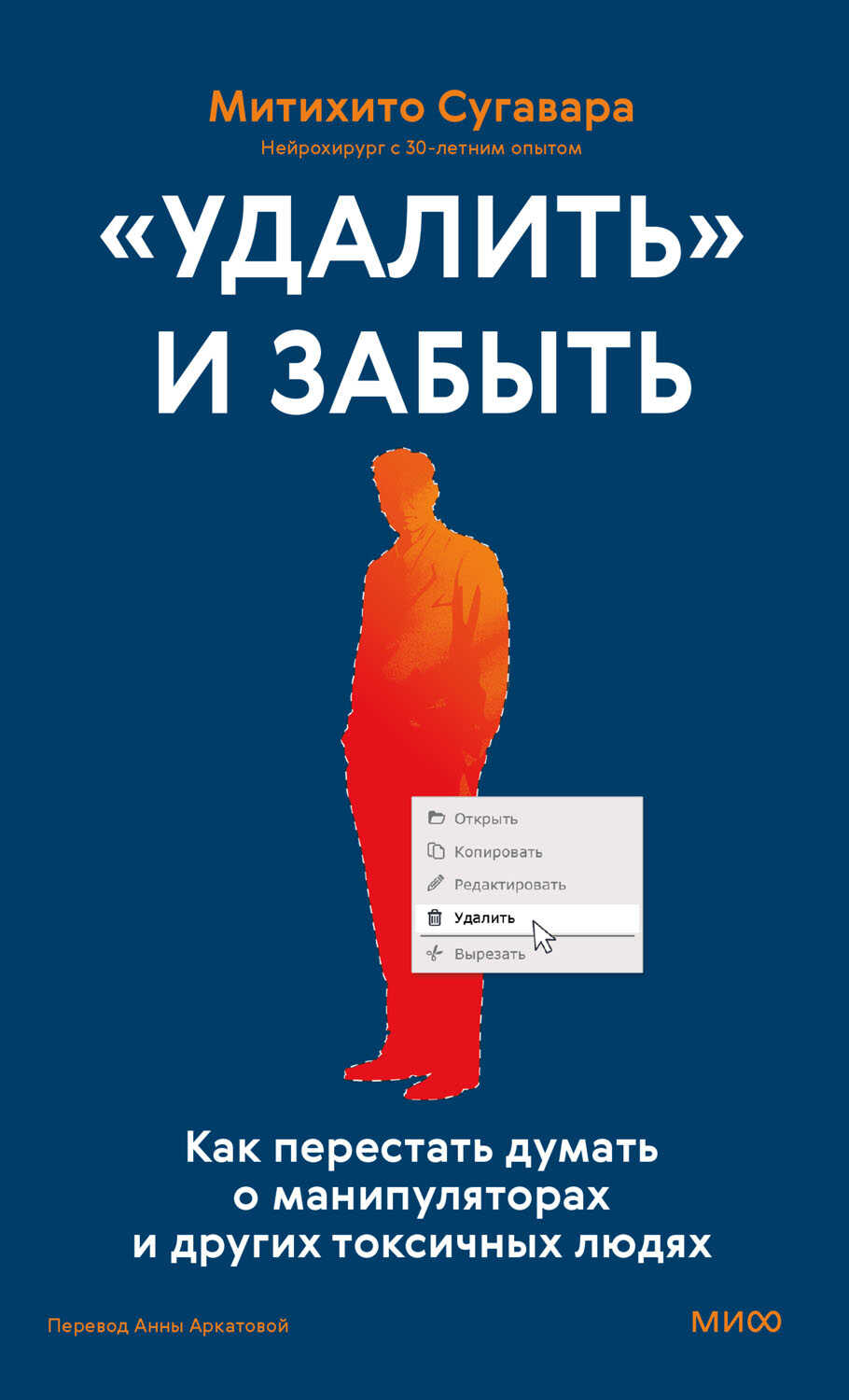продавливался в сальную людскую массу, лежат бетонные блоки, чёртова дыра, Архиповский, вот уж точно, ни пройти ни проехать – затем круто поворачивает направо и вливается в Ямской угол тощей щелью между слепых стен.
Через этот-то узкий лаз я проник на нужную улицу – где встретить должен был, но не встретил. И тишина, там была тишина, и низкое небо, но разъя снилось, низкое небо, очень синее. Какая там была тишина – слышал собственные мысли.
Ноги болели так, словно бежал марафон, из последних сил доковылял до входа в нужный двор. И вот – там должна была проходить ты, наверное, через вход другой, что ближе к проспекту, а Фил через этот, напрямик. Ты ведь всегда опаздываешь, Господи, сделай так, чтобы в этот день встретил её, хоть глазом одним увидеть её… Но он не был раньше в том дворе – угловой дом, двор проходной. Метнулся к воротам, поскользнулся, встал, улица пуста. Тебя нет, но вдруг появишься, и страх явленный увидеть тебя и опозориться сильнее, страх, к другому прохожу проходу между домами – выйду тебе навстречу, наберусь смелости… Три года назад тому в классе пятом смелости было, чтобы давать бить себя и таскать по полу за рукава, лишь бы мимо неё, лишь бы ты видела. А теперь нет смелости догнать. Каждый божий день ходил за нею, следил за нею от школы до дома, а поговорить нет смелости. Но в другом проходе стоял забор – Фил никогда не был там и не знал этого. Там забор – невысокий, не перепрыгнешь, и к нему вёл предательский чёрный сугроб. Чёртов март. Провалился, полные ботинки снега, взялся за прутья, подтянулся, перекинул ногу, сорвался, повис на штыре. Куртка выдержала, ноги не достают до земли. Предательский рыхлый снег, снег, который предал меня. Я долго висел на том заборе.
Глава I
Нет, начать следовало не с этого. На самом деле она была всегда.
Фил немногое с детства знал. Что надо работать в университете – где и мама и папа работали, и дедушка, отец мамин. И знал, что обязательно будет, потому что нельзя иначе. Нельзя, практика марает руки, управляй процессом, не исполняй его. И папа говорил, и отец мой, не исполняй, мол, и многое другое, логика, логика. Папа – логик, он преподаёт логику и молчит. Он молчит, из угла и тенью вдоль стен. У него нет залысины ещё. Волосы чёрные и короткие серебрятся электричеством, серое в жёлтом свете.
Фил знал слово «сессия». Сессия – это время, когда папа говорит. Я сижу дома и болею, не иду в сад. Или суббота, и я не болею. Утро, и свет белый, они сидят в гостиной, я смотрю телевизор и не вижу. Белый свет пляшет на пыльном кинескопе. Кот Леопольд, «лето кота Леопольда», зелень, дача, борщ на плите. У нас никогда не было дачи.
– Мы городские люди, – и мама, и дедушка, и папа, – то, что с огорода дёшево, с избытком ком-пен-си-ру-ет-ся излишними тру-до-за-тра-та-ми. И на огороде летом надо работать, а зачёты, а сессия.
Сессия – отец говорит. Мама кричит из глубины прихожей:
– Ты думаешь, я не вижу, что ты нажираешься?? – Глубоко, далеко в прихожей у грани подъезда и улицы, я не вижу. – Тебе дают, а ты берёшь, кем ты себя выставляешь?
Чего нажираешься? И так ли это плохо? Нет, плохо не это: есть надо аккуратно, ложка в правой, не кроши за столом, салфетка, руки вымой. Отец говорит, не о том, он логик:
– Я не беру взяток.
– Борзыми щенками. Не делай из меня дуру!
От отца сладко пахнет, он говорит:
– Я не хочу исправлять неисправимое.
– А я не хочу быть замужем за алкоголиком. Ты думаешь, тебя не видит никто, кончится тем, что ты без нагрузки вообще останешься, и тогда…
И тогда, долго, от папы пахнет сладко, они смотрели телевизор, пыльно и свет пляшет, я не вижу. Я не люблю, не любил никогда кота Леопольда, так правильно всё и строго. Это недолжное и делать нельзя, так нельзя и только же так можно. Давайте жить дружно. Фил не хотел так, глупо и узко. Как было бы быть, если так только, если только так… А мышей жалко; они строят машину, и белый чертит формулу на песке. Никакой Леопольд в ней не разберётся, строят и испытывают, но всё всегда против них. Мне не нравится, несправедливо. У нас никогда не было дачи. Во дворе зелено и белый свет, подъезд, и июнь тенистый и кислый, сирень не отцвела, белые бабочки в белом свете.
Мама вечером опять ругается с отцом. Маленькая комната ещё закрыта, не пробиралась по стенам тень моя, всегда была закрыта, и я не там. Я сплю на диване вместе с отцом. Он гасит свет, снимает очки и долго ворочается. Окно, экран синий и диафильмы теней, тени пыльные прячутся по углам. Фил сказал:
– Мне жалко мышей. Такая штука классная!
– Это машина Голдберга. – Голос отца ровный, как если машина говорит со мной.
– Кого?
Отец гладит меня по голове, приобнимает:
– Это такое название. Аппарат, нарушающий все законы логики и физики, чрезмерно сложный. Такие показывают в фильмах для комического эффекта. Чтобы смешно было.
Но не смешно, и завораживает, и цифры след на песке изящный и извитый. Я обязательно построю такую, только дождусь того, на чью голову должен упасть арбуз. Фил засыпал – отец смотрел и гладил по голове, и думалось мне: вот, и если бы мыши вели себя хорошо, всё равно получали бы. Как так? Но ведь кто-то всё придумал это, значит, заранее знал. Там Леопольд хороший, а мыши – нет. Они бы всё равно получили. Мне жалко их.
Я смотрел на тебя, а ты похожа на кота Леопольда. Ты не говоришь никому ничего, но светлая и жёлтая, и жёлты обложки твоих книжек. Я смотрю на тебя и всегда смотрел из своего угла – я часто бывал там, я в своём, ты в своём. Фил её придумал – должно быть, что-то красивое, если вечно стоишь в углу. Или попал я туда, чтобы на тебя смотреть. Это легко, даже слишком.
– Отдай! Отдай, это моё!
– Нет!
– Вор, мразь, уёбок! – О, это только думают все, нахватался, но я знаю, что говорю.
– Ольгвикторовна, он материииится!
И толкает, и я его!
– Я его легонько толкнул, а он со всей силы-ы-ы-ы-ы…
И я в углу, и вижу тебя.