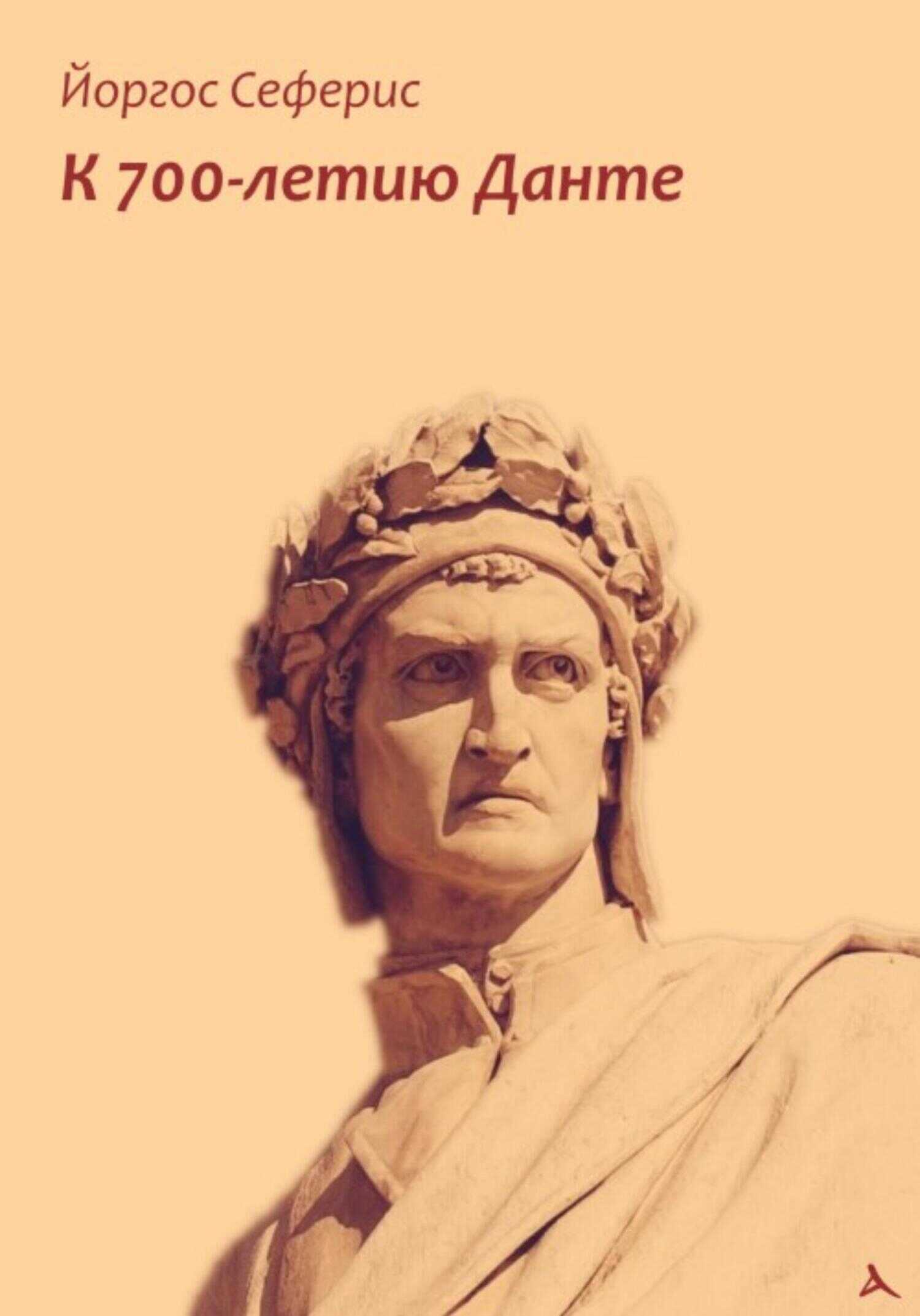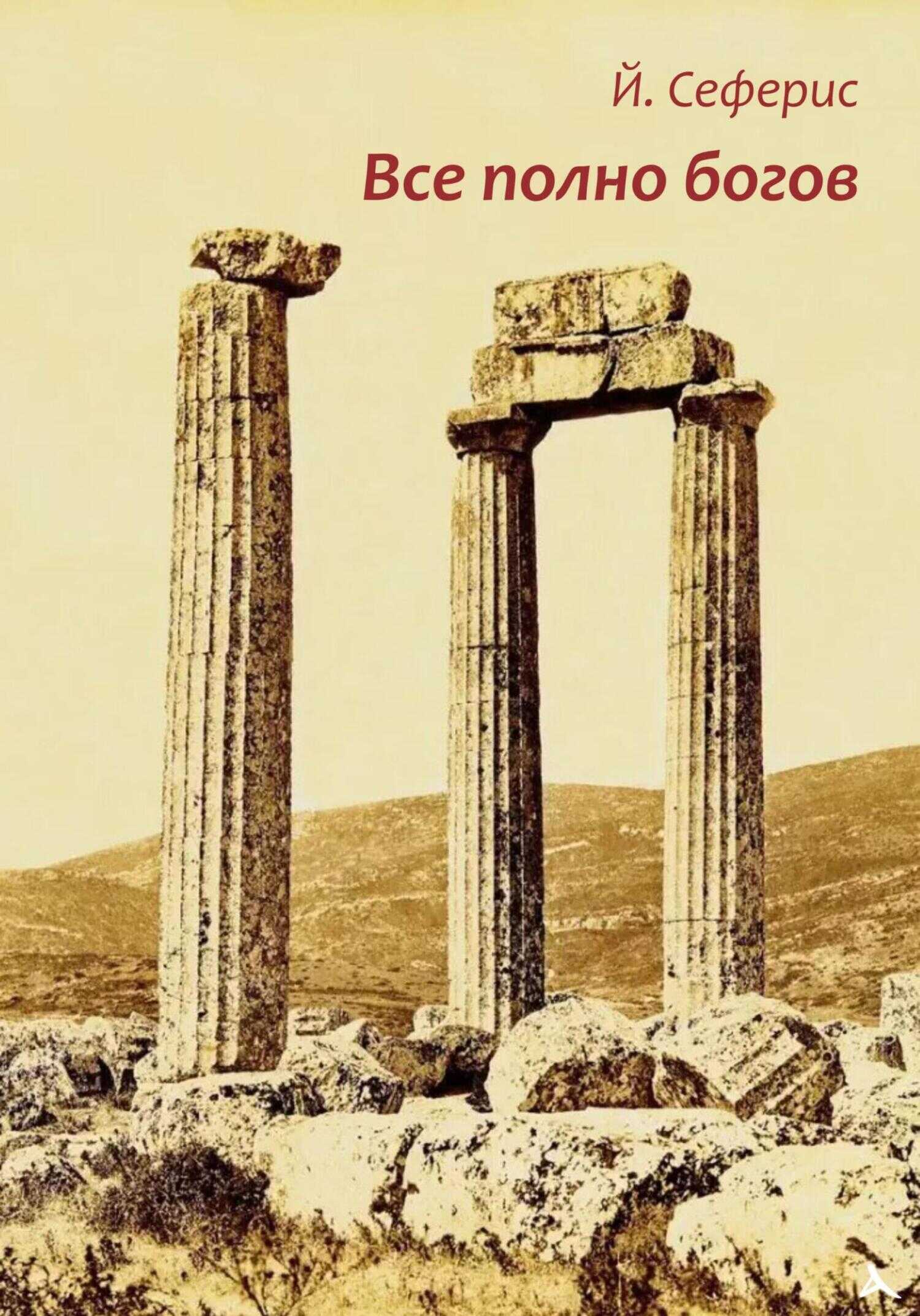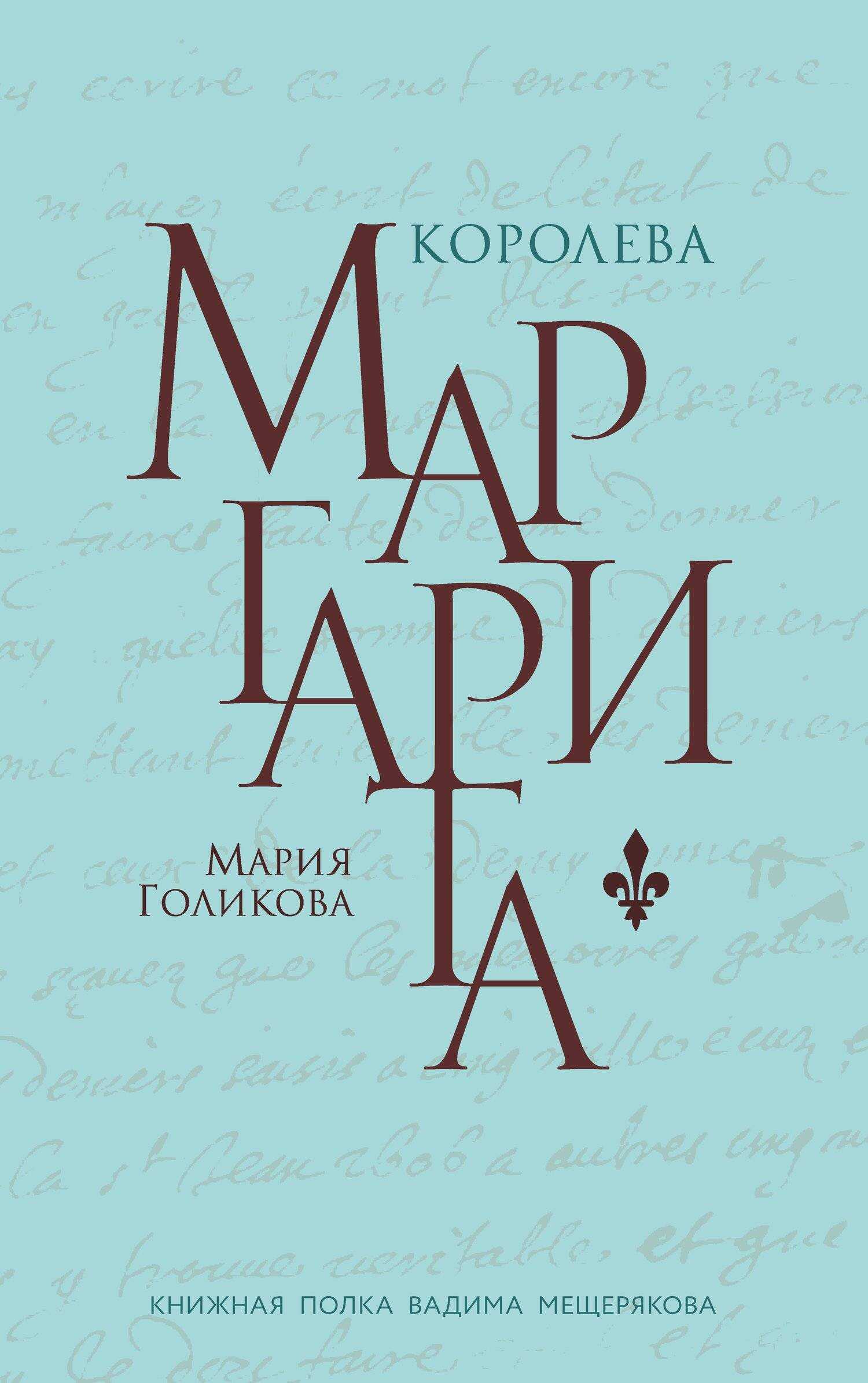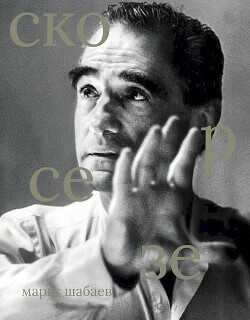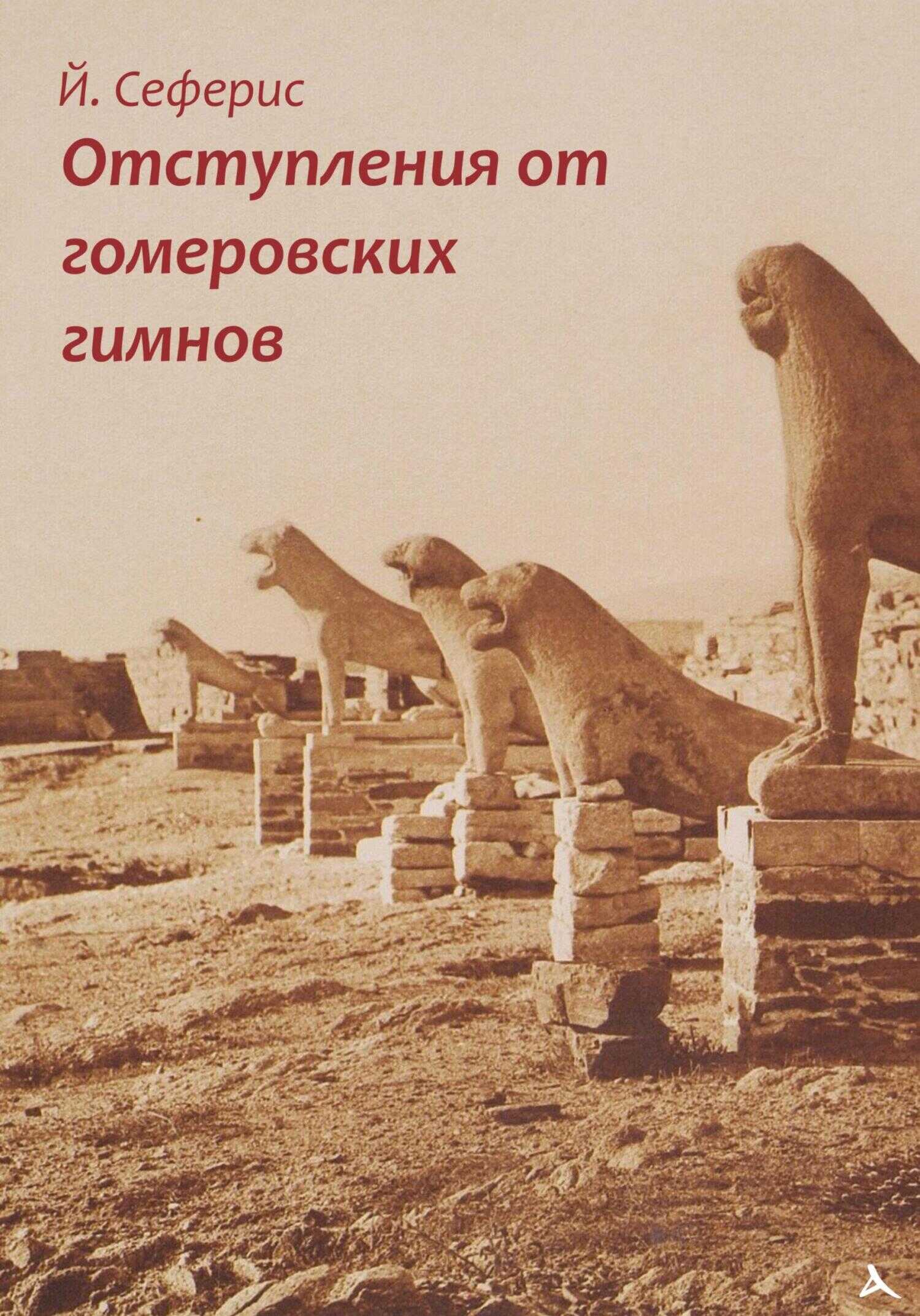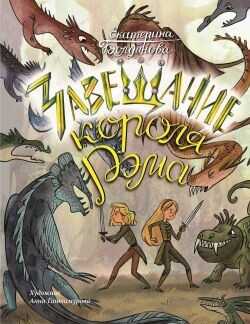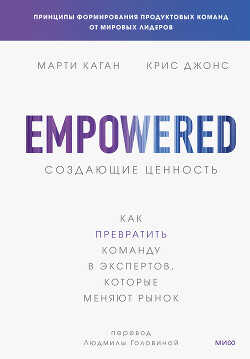И вижу себя, ноги, руки, и ненавижу, что говорят «молчи», и не молчу.
– Говнюк!
– Сволочь!
– Не лезь, урод!
И я в углу, и вижу тебя. Это легко. Слишком, легче лёгкого – я ненавижу их, и рад, они не знают моей тайны. Фил смотрел на неё. И иногда – ты. Фил ненавидел её, он – тут, она – там, и не мог не смотреть. Не мог молчать, не смотреть. Слова приводят к тебе. Любые слова. Сюда легко попасть, и невозможно к тебе. Надо любить читать. Надо любить, как любить, если надо? Он придумал её, в сказку не попасть. До неё не достать – можно отобрать что-то, но не за что. Он боялся, она молчит, не подойти к ней. Ненавидел, обидеть хотел, да не за что. Кинь мне хоть слово, как спасательный круг. Фил бы зацепился за него. Я обижу тебя, и на веки вечные ты будешь стоять рядом. Но ты хорошая, ты молчишь. Ты не ошибаешься, ведёшь себя хорошо. Я ненавижу тебя за это. Фил придумал её, как сказку, смотрю и вижу. Ты – кот Леопольд, я – суть мыши, может, только белый, или оба. Я знаю, это на тебя должен упасть арбуз.
– Надо хорошо себя вести! – Ольга Викторовна не тащила Фила в угол, он сам шёл.
– Извините, пожалуйста!
– Надо исправляться, понимаешь?! Стой и думай.
Фил стоял и думал. Он не хотел вообще-то, само так получалось. Он ненавидел себя, не молчал, но, открывая рот, попадал туда – в любом случае. Я стою и смотрю на тебя. Через бумажные стены.
– Отвернись в угол лицом!
– Не буду!
Она брала за шиворот и поворачивала. Фил не сопротивлялся. Потом она отворачивалась сама. Я смотрю на тебя. Пахнет вафельными полотенцами.
А час тихий! И не спавшие что творили, и не спала ты временами тоже; она смотрела на Фила – как когда редко, но дух у него захватывало, но тихий час, я мечтаю, чтобы ты спала. Кидались подушками, дрались и бегали, и показывали такое, и за анатомию эту я тоже был в углу, я за всё и всегда в нём был, но не ты. Все показывали. Я убеждаюсь всё больше, что придумал тебя, потому что это никогда не ты. И вот почему – я просто не знаю этого. Всё просто.
Какую стойкость духа я выказывал и какое спокойствие, вися на этом заборе. Может, и Христу на кресте было не страшно – когда смерть отчётлива, некоторые смиряются. Но он не умрёт и не смирится, не сегодня и никогда. Но это спокойствие и ровное биение сердца – где было оно раньше? Не поведись он на импульсы и сиюминутные порывы – о, я бы чётко продумал свои планы и извёл бы тебя с лица земли, или бы была ты у ног моих и рядом со мною. Когда они пришли – а они пришли, и я не знал, в сущности, зачем, – они не кидались в меня льдом и не плевали в моё лицо, нет, они знали, что я шёл за ней, и пошли за мной. Я долго висел, и, самым вальяжным шагом идя, они могли не торопиться и найти меня. И нашли.
Кухмистров едва сдерживался, чтобы не прыснуть в кулачок, но он молчал. К сожалению, стыд липкий и топкий, к нему нельзя привыкнуть. Он едкий, как плавиковая кислота, и топкий, как зыбучий песок. Мазурова вышла вперёд, а Фил назад отскочил во времени; Мазурова всё то повторила, что ранее ему говорила. Она говорила ранее:
– Фил, давай серьёзно. – Я висел, а она серьёзно, нет, вообразите только, но Фил смотрел на неё свысока. – Фил, пожалуйста, оставь Лару в покое. Если ты её любишь, в самом деле, ради неё, оставь в покое.
– Для начала вы меня все оставьте. А я подумаю.
– Может, я ему всеку? – спросил Кухмистров куда-то в никуда.
– Нет, я с ним поговорить хочу.
И вот тогда всё встало на свои места. Мазурова тоже иногда ходила к тому художнику вместе с ней. А я шёл за ней, а они не за мной, Мазурова шла, они шли с Мазуровой, я шёл туда же, но не за Мазуровой, мы встретились.
– Фил, мы же пытались с тобой говорить. Ты не понимаешь. Ты каждый день за ней следишь, ходишь за ней, ты мешаешь ей жить, понимаешь? Пожалуйста, оставь её в покое, если ты её любишь…
– Да я в гробу её видал, – я в гробу её видал, – и вас с нею вместе. – Я пытался сорваться, куртка трещала, но не поддавалась.
* * *
– Мама, я не хочу. Не хочу писать это в черновик.
Это было сочинение. Конец первого класса. Чёртово сочинение. Наша школа как выдающееся место. И чего в ней выдающегося? Мама стояла над душой и смотрела, а Фил с деловым видом сидел, едва возвышаясь над столом, и постукивал ручкой по столу, потому что так выходило солиднее.
– Сначала ты продумываешь основную мысль текста. По пунктам. Записываешь в черновик. Потом переписываешь в тетрадь.
Голова моя билась над двумя – нет, даже над тремя – одинаково неразрешимыми задачами. Ну, во-первых, – почему нужно дважды проделывать одну и ту же работу? Во-вторых – что же я хочу сказать? И – the last but not least – что же в нашей школе выдающегося? В окно смотрел, а видел птиц небесных. У них не было домашнего задания, у них не смотрят сочинения, не проверяют технику чтения. Они вовсе не умеют читать.
– Хватит считать ворон. Пиши. Сначала черновик.
Мама терпеть не могла ворон. Крыса с крыльями, говорила она. Крыса с крыльями. Пусть так, крысы мне всегда нравились – у них умные глаза и пальцы, похожие на человеческие.
– Почему я должен делать два раза одно и то же? Если мне что-то придёт в голову, я напишу.
– Потому что есть такое слово – «должен». Потому что будут помарки, исправления. Я свои сочинения переписывала по два-три раза.
Ещё она любила говорить, какие она писала отличные сочинения. Но в этот она просто смотрела, как я стучал ручкой по столу, и ничего не происходило.
– Должен. Должен написать. Всё тебя приходится заставлять делать из-под палки.
И тогда я понял, что я должен в этой жизни, – я должен любить то, что должен делать. Но откуда мне было знать, что именно я должен был делать?
…дедушка посвятил жизнь истории папства эпохи кватроченто, и эти странные викарии