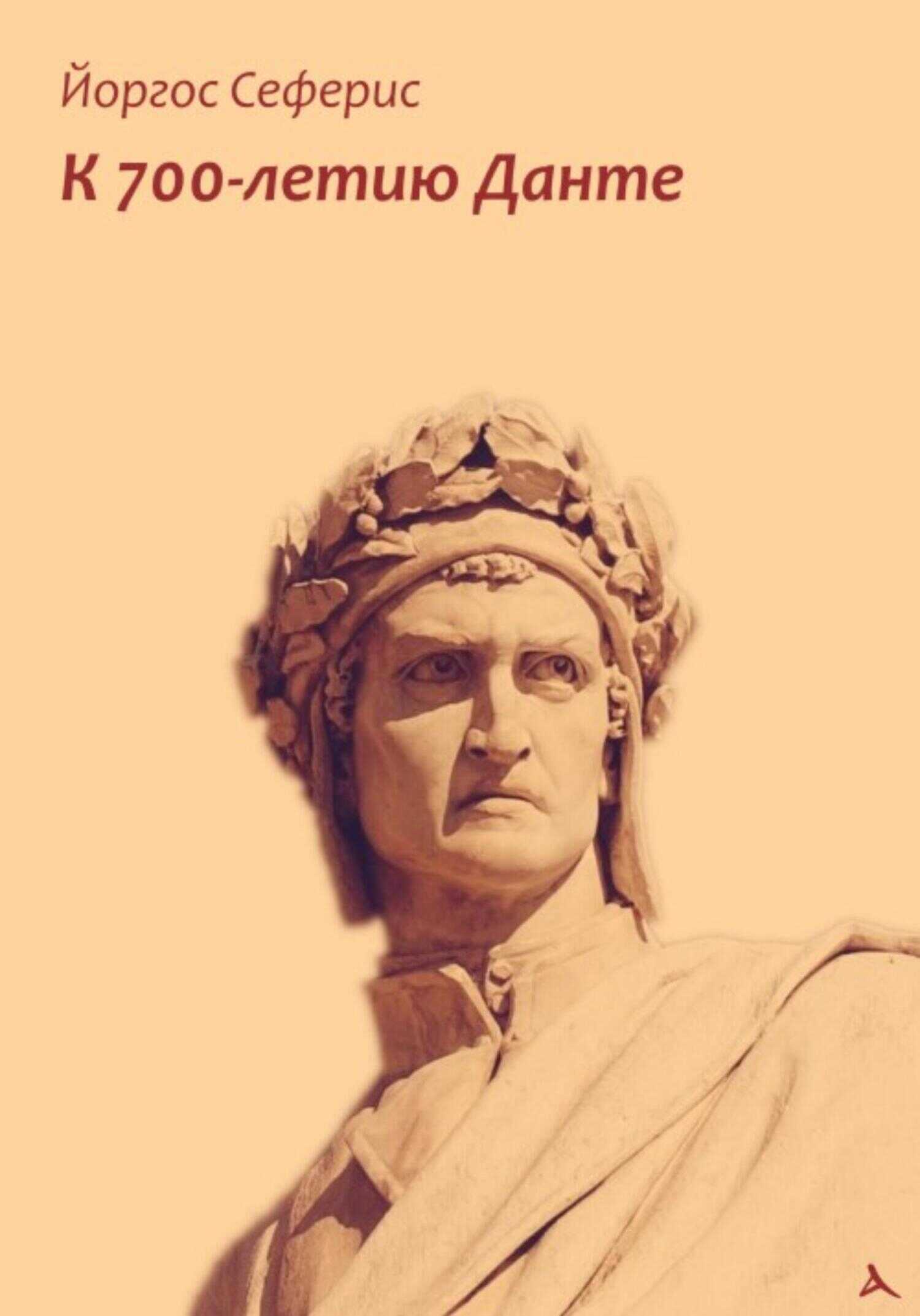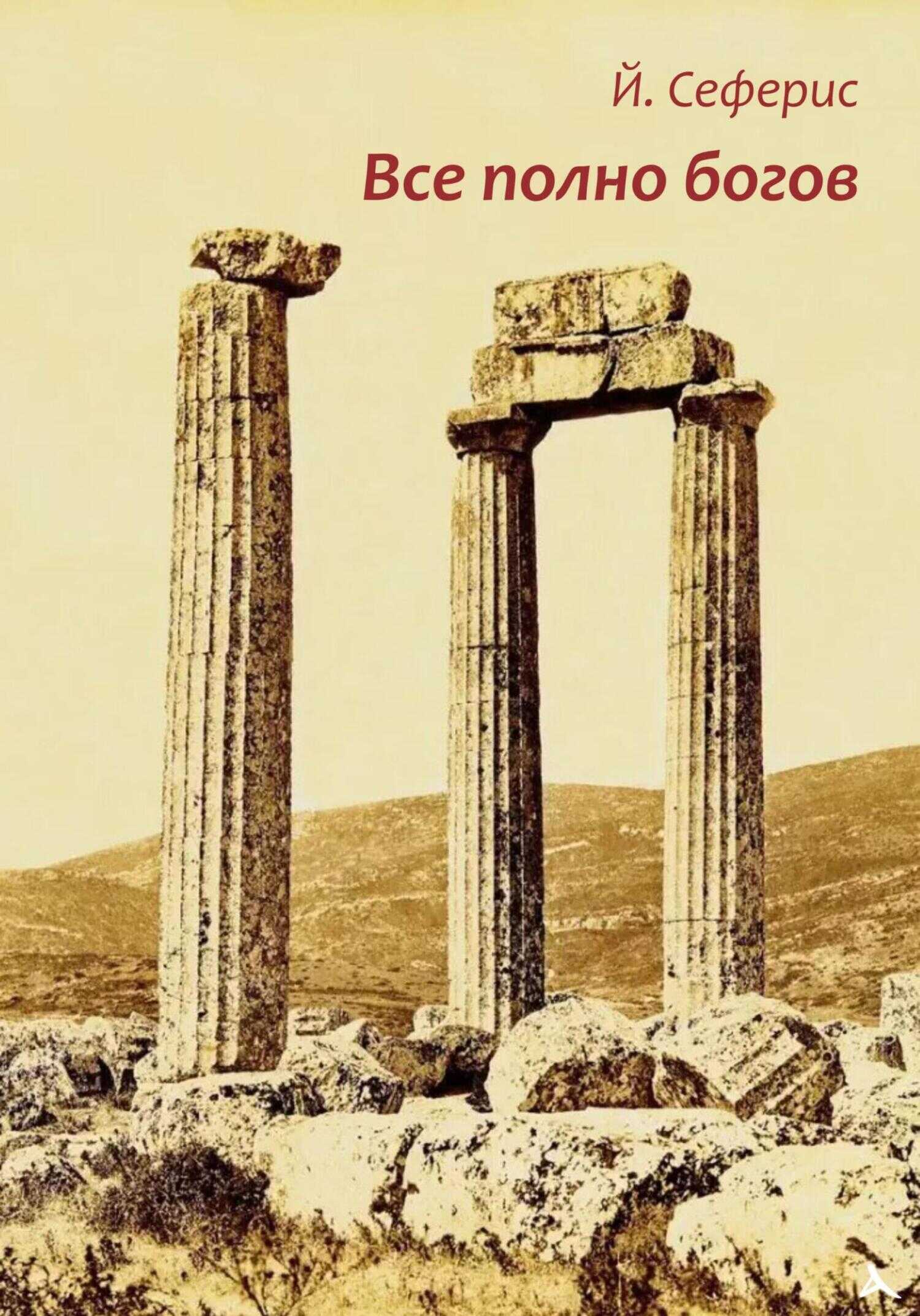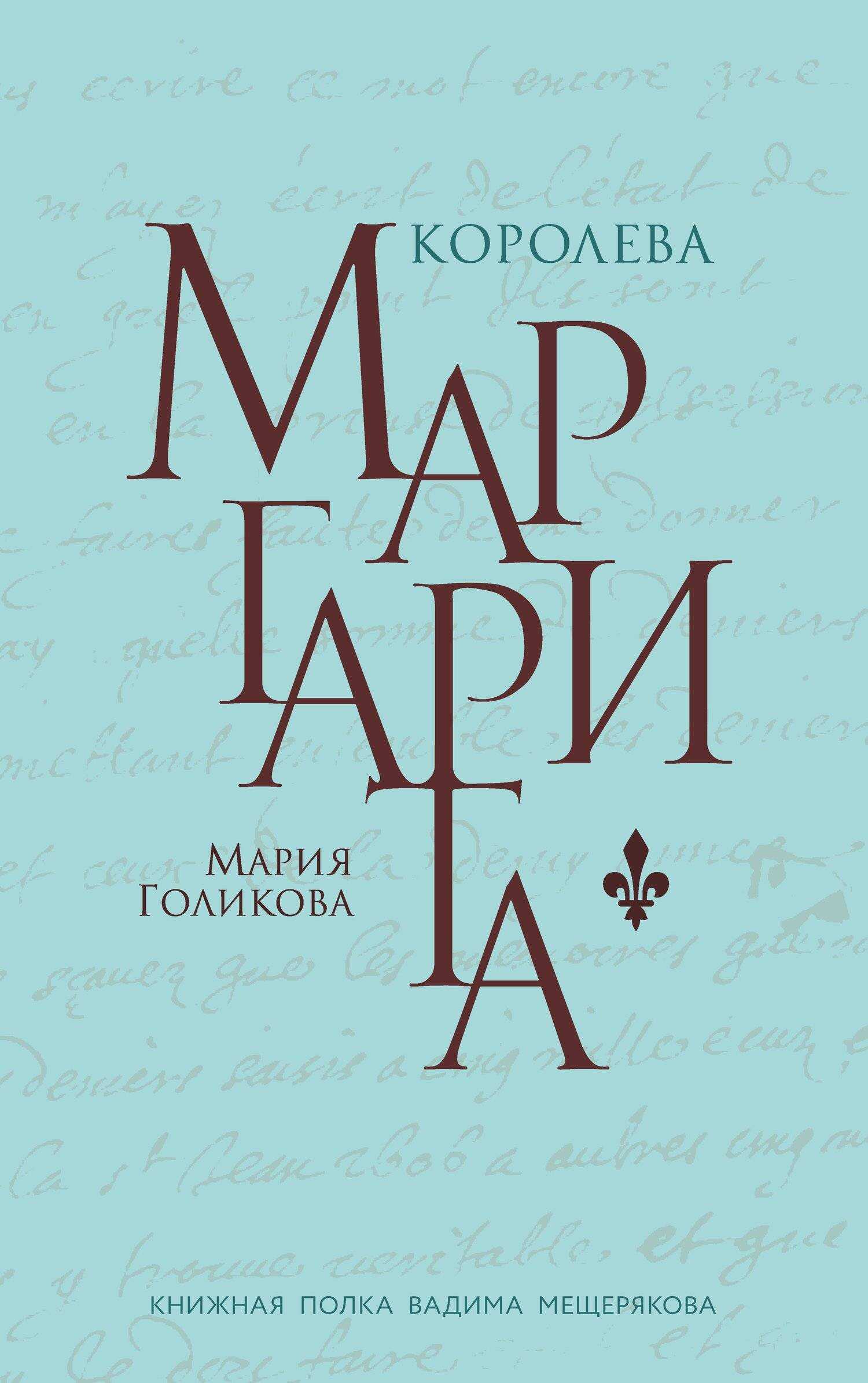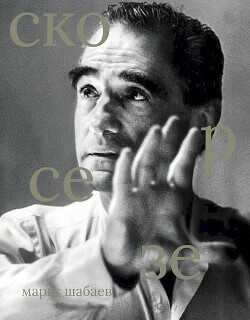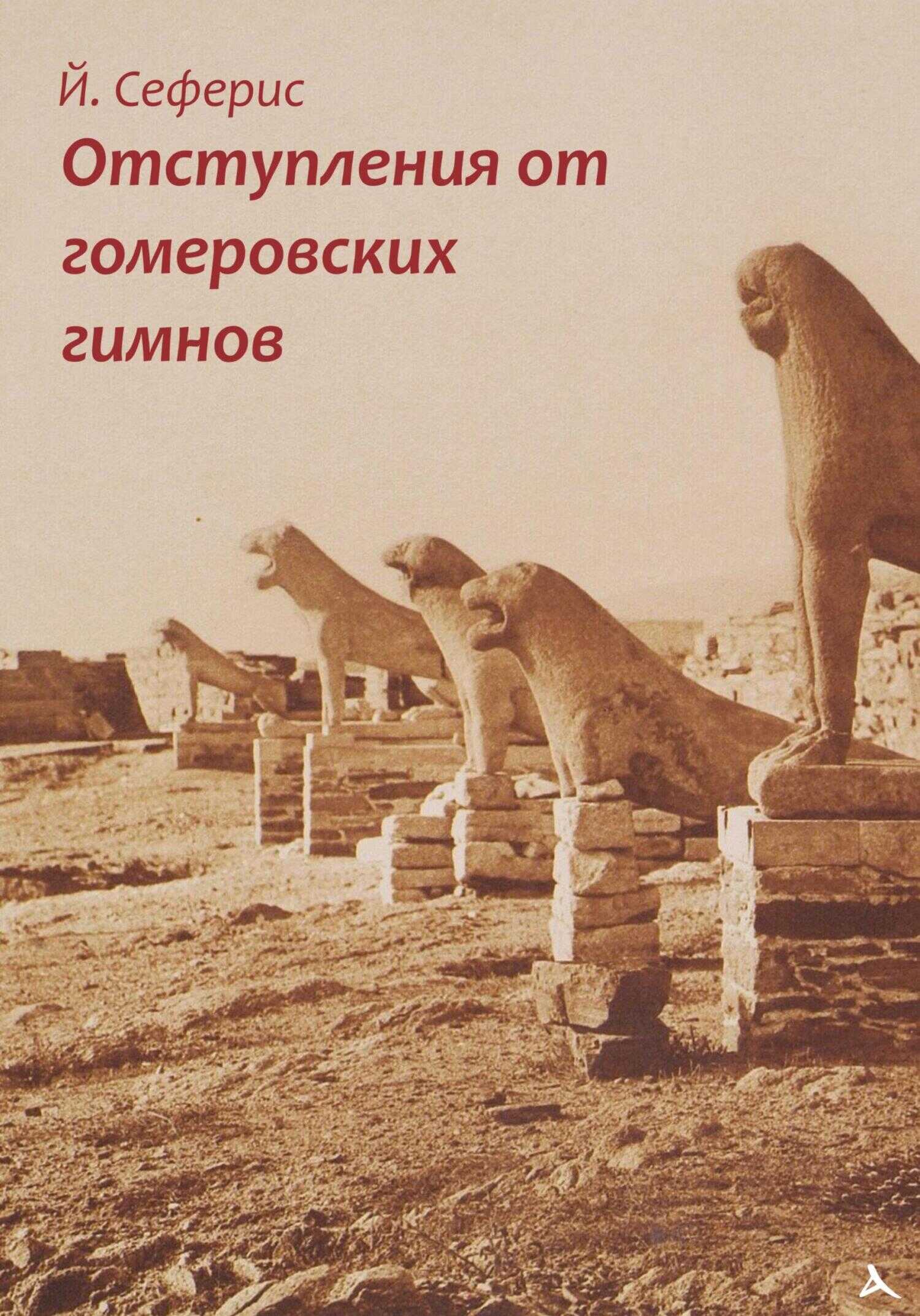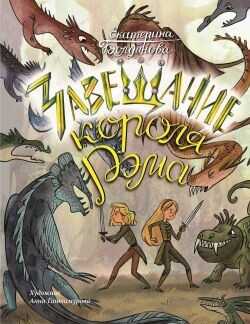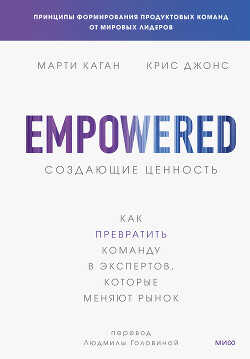белыми бёдрами впотьмах веранды. На веранде уже блевали.
А на дворе горел фонарь над крыльцом, избивая жирных мотыльков, точно им вокруг было мало сумерек, и ещё курилась баня, и под навесом догнивала мятая белая «пятёрка», и красная полоса над севером кровила, как резаная рана, светя ярче всех фонарей. Саша Кавелина – вот она, вот приставная лестница на крышу, как Бог и порог. Она забралась на одну ступеньку, села на вторую – чуть не упала, и фонарь высветлил белое тело под чёрной футболкой, она поджала голые ноги, и было зябко, и Кавелина поджала один глаз, глядя на меня другим, и я не знал, за что она укоряет меня, – за то, на что я смотрю, или за то, что вижу совсем не то, на что смотрю. Она не знала, что я вижу, но этого Фил не знал и сам.
– Когда ты уезжаешь?
– Не знаю. Скоро. Подкури мне.
– Чего ты такой грустный? Всё, отмучились. Давай бухать! – и она улыбнулась мне, но я, я…
Так не будет – всё кончено, и так не будет, была память, но нет и её, Фил говорил себе, я всё прокурил, и пропил, и прогулял, я не знаю, что будет, но будет совсем по-другому. И только хуже.
– О чём ты задумался?
– Я сам не помню.
– Значит, выпил, – и целомудренно свесила ноги вниз.
– Я не помню, Саша. И жестоко тоскую по тому, чего не помню.
Может, Кавелина хотела усмехнуться – она дёрнула всем ртом, но пришёл Метленко и согнал её с лестницы – полез на крышу. Там, попытки с третьей, расстегнул штаны и приступил; ссал с крыши и орал дурным голосом:
– Я царь мира, блядь!!!
– Ты ща ёбнешься, блядь! – сказал ему кто-то.
– Я царь мира, я не могу ёбнуться!
– Бдыщь, блядь! – крикнул Шутов, и Метленко поскользнулся и громко плюхнулся на шифер, прямо на задницу. С крыши закапало.
Всё кончено, а утром мы протрезвеем – я отвратительно трезв теперь и стану ещё трезвее утром, я выйду на дорогу и уйду из этого города, и, может, время поможет забыть весь стыд и позор, который я здесь пережил, каждый позорный день и час, когда я не умел быть тем, кем должно, думать, как должно, и вот теперь докатился до того, что стою на этой даче, у чёрта на рогах, и какой-то ссаный Метленко мочится мне чуть не на голову, потому что встать ему невмочь. Животное.
Деньги, деньги, которые надо было беречь – свободных так мало, что хватило только на какую-то «Новость» в мягкой упаковке. За девять рублей. Тряхнул Фил пачкой, вытряхнул в рот сигарету.
– Да, как низко я пал…
– Ты о чем? – Кавелина близко, дыхание её осаждается на груди моей, прямо через рубаху. Нет, я всё-таки пьян, не контролирую себя, внутренняя речь вылезает наружу. Сколько лет я себя учил… И как ей не холодно с голыми… ногами?
– Думать, – полушепотом, затыкая слово обратно в горло, а оно лезет оттуда. – Думать!
– Фил, что с тобой? У тебя голова болит?
Так вот что, морщусь я, она думает – голова болит! Ха! Снова ошибка, я снова сделал ошибку – почему она не смеется надо мной? Она подставит тогда себя, мы спали, это все знают. Но это слышали другие – почему молчат? Неразумно… я столько думал о мучениях – здесь не может быть ошибки, не должно… Вспомню вдруг всё – весь свой путь, слишком много, чтобы разобрать это на отдельные слова, стыд, горячий, как изжога, прямо к горлу, сожжет все слова которые лезут оттуда, и я снова смогу говорить – я, я, только я.
– Да я про сигареты. Дешманские, видишь, какие?
– «Новость», – мягкая пачка будто размягчается ещё более в теплых пальцах, – я таких сто лет не видела. У меня батя раньше такие курил, и ВТ ещё. Ты их у китайцев на Кирпичном купил, что ли?
– Не помню.
Слишком много… помню много слишком… я даже не пьян быть могу где должен там… позорище. И самого главного вспомнить не могу. Зачем, зачем?
Фил чувствовал, что ему нужно как-то выйти из этого противоречия, и он быстро нашёл выход, сказав себе: раз так, я напьюсь, раз всё кончается – я напьюсь, раз дальше будет только хуже – я напьюсь, и гори оно всё синим пламенем.
– Пойдемте, накатим уже, а?
И вот мы в полутёмном, полугнилом доме, тёплая водка раздирает горло. И Шутов кричит:
– Всё, мы красавчики!
– За выпускной! За школу! За свободу! – кричит кто-то моим голосом, но отчего трезв я?
С тёплой водки можно только блевать, но Филу не блевалось.
– Надо что-то сильное.
– Можно коктейль намутить, – сказал Кабанов, глядя на Кавелину. Та доливала водку в апельсиновый сок.
Да… смешать всё. Я пошёл на кухню – нашёл там пиво, пошёл в комнату, где Вишневская отбивается от Семенова, – нашёл красненького. Вылил в стакан – почти поровну.
– Это что у тебя?
– Пиво с красненьким.
– Ну ты смелый, в натуре.
– Так когда ж ещё попробуем?
– Тоже верно.
– Водка ещё есть! Наливай!
– А ты помнишь, как я Капитана битой ёбнул?
– Кабан, да ты не гони, в натуре, это Метленко был!
– Это Максименко вообще был. Он с битой пришёл!
– Я тоже с битой пришёл!
– С городошной.
Я доливал водку в стакан, жидкость в нем светлела, совсем не как память моя. Да будет так, я не помню, что надлежит мне забыть, тем прочнее забуду.
Пришёл Шутов, что-то, зачем-то.
– Это всё хуйня, водка эта. Филыч, дай сюда.
– Это что?
– Одеколон. Вот тогда точно вставит.
И тут все замолчали.
– Тройной! Великая вещь!
Да. Как кинематограф – великий немой. Бетховен – великий глухой. К слову о музыке – эта длинная чёрная херня тогда будет великий гобой. 23:00 – великий отбой. Почему бы и одеколону не быть великим тройным?
– Да ну на хер, Вань, мы же траванёмся!
– Сашка, не ссы, тут сорок грамм, не траванёмся.
– Да зачем он вообще нужен, вон водки сколько.
Лей, Ваня, лей. Лей, Шутов, спаси меня.
– Раньше пили, и нормас было. А мы даже не пробовали. У нас старшаки до хуя всякого рассказывали. Хоть попробуем. А то если так дальше пойдет, скоро и водку пить перестанем.
– А с чем выпускной отмечать? – спросил кто-то.
– С детским шампанским!
Я, кажется, читал в газетах про вертикаль власти и про то, что в Испании, кажется, хотят запретить корриду. Фил никогда её, корриды, не увидит,