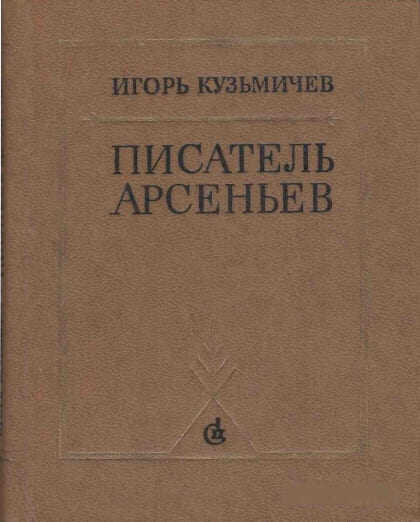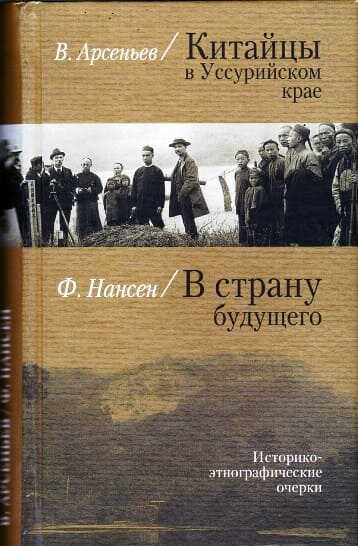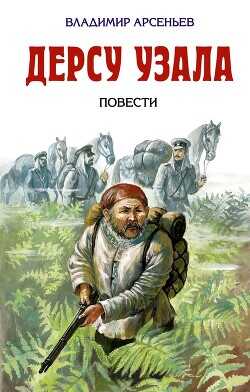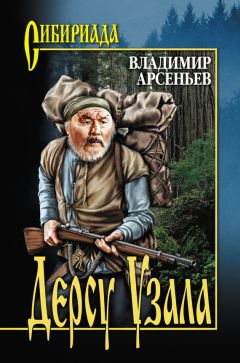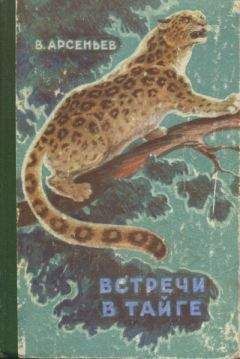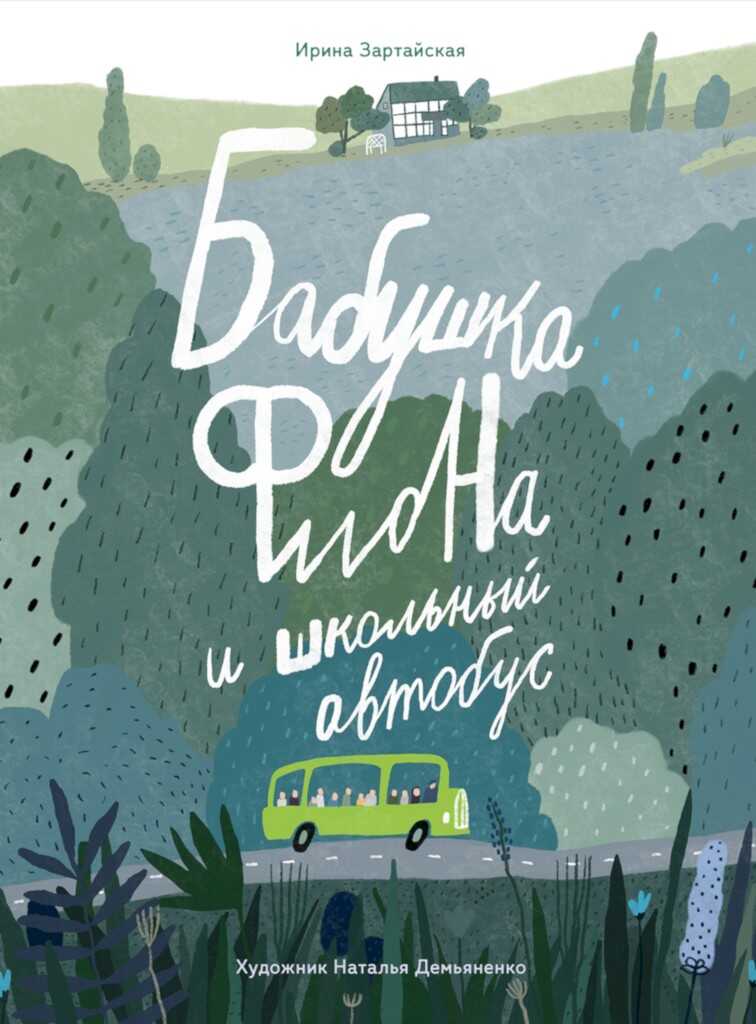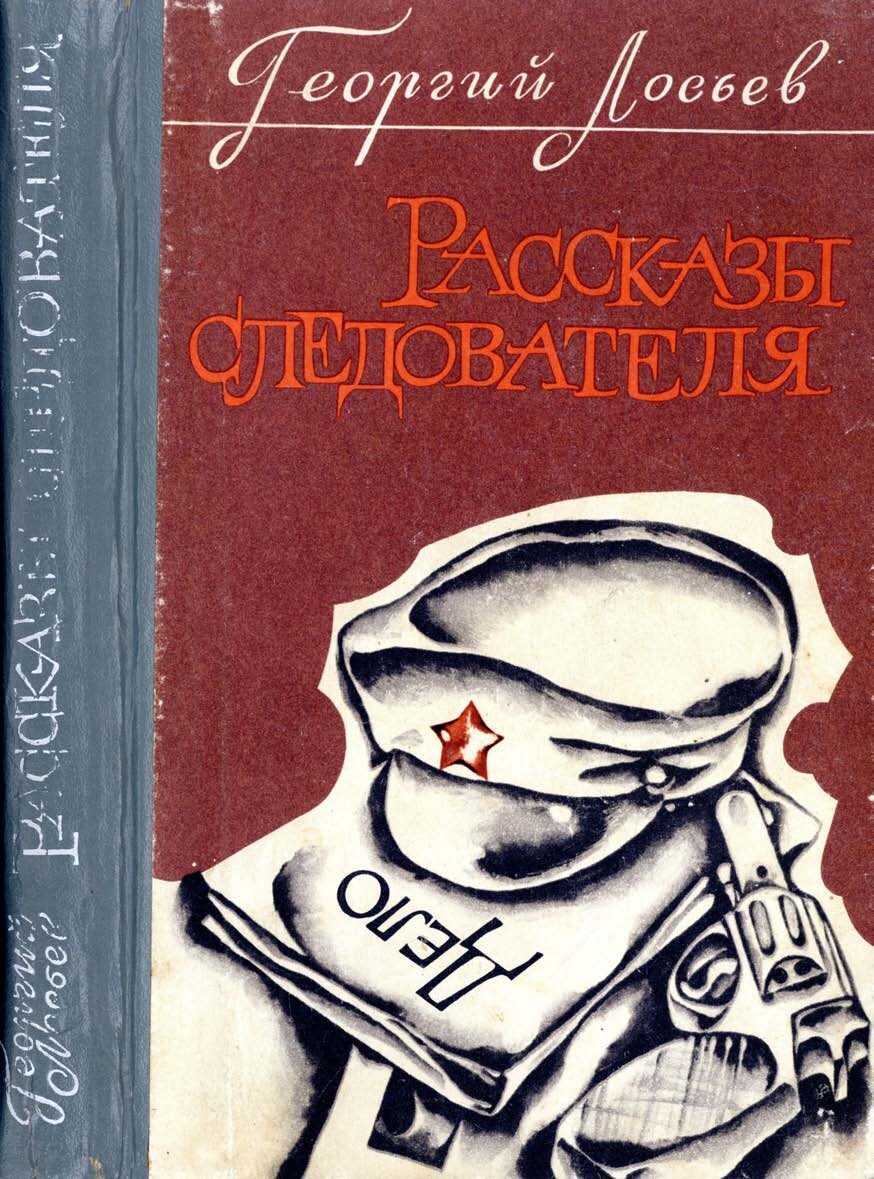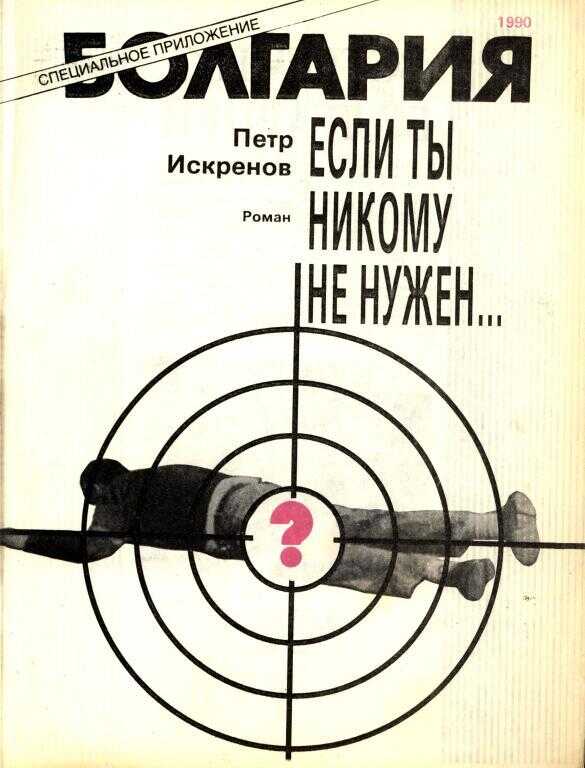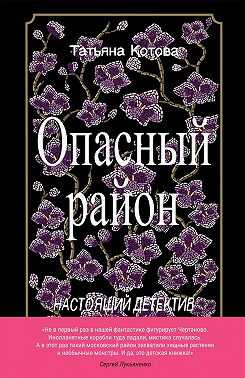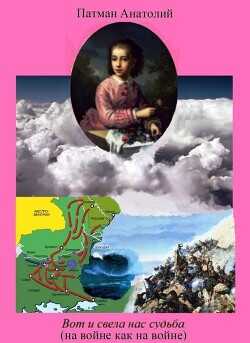вдовой и своими женами, между ее детьми и своими. Смерть — вне вины человека. не поддержать чужую семью — великий грех! Опасность одного человека — есть опасность всего рода, всего народа. В этом отношении у удэхе нет бездушного эгоизма».
Как видим, интонация здесь далеко не безучастная. Не одно любопытство этнографа руководило Арсеньевым в данном случае. Даже в строгих рамках «Краткого очерка...» он сумел продемонстрировать еще личное отношение к предмету своих исследований.
Те же удивление и восторг, какие вселяла в него реликтовая природа, испытывал Арсеньев, наблюдая туземцев Уссурийского края. Он писал, что «раздел земли они так же не понимают, как раздел воды и воздуха, которыми пользуются наравне и люди, и звери, и птицы»; что «наивная честность их прямо-таки трогательна», вор, по их понятиям, — урод, сумасшедший; что многие из них не знают счета денег, и даже истинная стоимость мехов, которыми они испокон веку промышляют, не всегда им известна.
Такая патриархальная наивность в столкновении с законами и нравами цивилизованного общества, естественно, терпела полный крах, и Арсеньев в «Кратком очерке...» и в книге «Китайцы в Уссурийском крае» рассказывал о бесчисленных способах обмана и эксплуатации аборигенов, анализировал причины их морального и экономического закабаления и предлагал свой комплекс мер для восстановления попранной справедливости.
В силу официального положения, как когда-то в «Отчете о деятельности Владивостокского общества любителей охоты», Арсеньев адресовался, во-первых, к правительству, призывая незамедлительно изменить существующие в Приморье порядки. Пытаясь заинтересовать и привлечь себе в союзники военное ведомство, он обращал внимание на ту практическую пользу, какую могут принести, например, орочи, и писал: «Орочи представляют собой такой народ, который при умелом с ним обращении, при известном к ним внимании и при небольшом участии к их положению может быть с успехом использован. Как коренные туземцы страны и как природные охотники, они будут отличными проводниками». Арсеньев требовал элементарного общественного милосердия, напоминая о подверженности орочей болезням, которые давно побеждены цивилизацией. «Орочей действительно можно пожалеть, — писал он. — Они гибнут часто там, где смерть можно предотвратить, подав своевременно им первоначальную медицинскую помощь». Душой Арсеньев был полностью на стороне этих бесправных, притесняемых людей, страдавших и от всепроникающего буржуазного влияния, и от постороннего хищничества, и от неразумия местной администрации.
С первых его шагов на этнографическом поприще обнаружилось: таежные аборигены не были для Арсеньева посторонним объектом академического изучения, он писал о них как о своих знакомых, помощниках, подчас спасителях, он периодически жил в среде тех, кого изучал, его связывали с ними прочные и долгие взаимные контакты. Даже в чисто научных работах это ощущалось, давало о себе знать, и в том же «Кратком очерке...» есть страницы, не лишенные лирики, а точнее говоря — человеческой теплоты, на какую вряд ли были бы способны миссионеры-чужестранцы или путешественники-гастролеры.
Арсеньев обследовал тайгу по-хозяйски и при этом сознавал полную ответственность за положение исконных ее обитателей, никак не готовых к жестоким сюрпризам цивилизации и не имеющих твердой государственной поддержки.
К тому времени, когда были написаны и вышли в свет «Краткий очерк...» и «Китайцы в Уссурийском крае», Арсеньев уже не первый год профессионально изучал этнографию. Он стал опытным полевым исследователем, этнографом-практиком, вел большую работу в Хабаровском краеведческом музее, занимался различными коллекциями и периодически пересылал ценнейшие экспонаты в Академию паук. В его переписке тех лет, скажем, в переписке с такими учеными, как Штернберг или Житков, можно не однажды встретить прочувствованные слова о том, что этнография — дело всей его жизни, с ней связаны все его замыслы и планы на будущее.
А планы у него были смелые.
Например, в июле 1913 года Арсеньев — не без влияния Миклухо-Маклая — писал Житкову: «Так вот, в 1914 году я решил покончить с Уссурийским краем и перенести свои исследования на Крайний Север Сибири — на острова Врангеля, Новую Сибирь и другие. Хочу ехать к айвунам. Хочу составить подробное географическое описание этих островов, хочу поработать, пока еще есть здоровье и сила. Хочу просить, чтобы меня отвезли на эти острова и оставили бы там, а через три года зашли бы за мной и взяли обратно. Мой план такой. Первый год я посвящу изучению языка айвунов, второй год займусь этнографией. Хочу просить Вас, многоуважаемый Борис Михайлович, поратуйте за меня в Москве — очень важно теперь же начать собирать всю литературу об этих местах и об этих людях. Нет ли у кого-нибудь касающихся этих вопросов записок, мемуаров, писем, личных воспоминаний, выписок из дневников и т. д. Все это очень важно. Больших денег мне не надо — я готов работать с малыми деньгами... Одобряете ли Вы мой план?»
Плану этому, как и многим другим, не суждено было осуществиться, однако увлеченность Арсеньева этнографией, его стремление к научной основательности в своей работе, желание достигнуть «столичного уровня» совершенно очевидны.
И в письмах к Штернбергу, начиная с 1910 года, Арсеньев неизменно просил советов, просил руководить его этнографическими исследованиями, отчитывался о проделанном.
В апреле 1915 года он писал: «За эти четыре года я хорошо проштудировал Шренка и Миддендорфа (еще раз), Ратцеля, Ранке, Шурпа, Харузина, Бушана, Леббока, Тейлора (спасибо за них! Сердечное спасибо. Сколько они стоят? Я до сих пор у Вас в долгу?) и перечитал почти всю краевую этнографическую литературу. Теперь я залезаю в этнографические редкости: Бошняк, Фишер, Миллер, Шперк, Баралевский, Иакинф, Васильев и т. д. На мое счастье, книги эти имеются в нашей библиотеке. По вечерам читаю Обермайера, «Человек», изданное под редакцией Мензбира. Как видите, вся перечисленная литература, прочитанная мною от двух до трех раз (это уже не простое чтение, а изучение предмета), позволяет мне немного смелее взяться за работу без опасения наделать грубых ошибок, по убеждает меня в то же время быть как можно тщательнее и осторожнее в своих исследованиях».
Штернберг многие годы был заочным руководителем Арсеньева. И, что особенно важно, он, в прошлом народоволец, отбывший сахалинскую каторгу, безусловно оказал на своего ученика влияние нравственное, объяснив ему истинные задачи их любимой науки.
У Штернберга были как бы шутливые «десять заповедей этнографа» и среди них такие: «1. Этнография — венец всех гуманитарных наук, ибо она изучает всесторонне все народы, все человечество в его прошлом и настоящем. 2. Не делай себе кумира из своего народа, своей религии, своей культуры. Знай, что все люди потенциально равны: несть ни эллина, ни иудея, ни белого, ни цветного. Кто знает один народ — не знает ни одного, кто знает