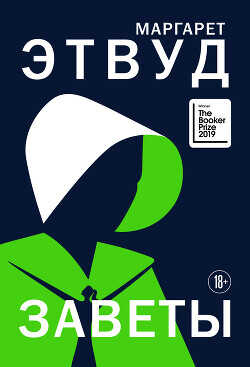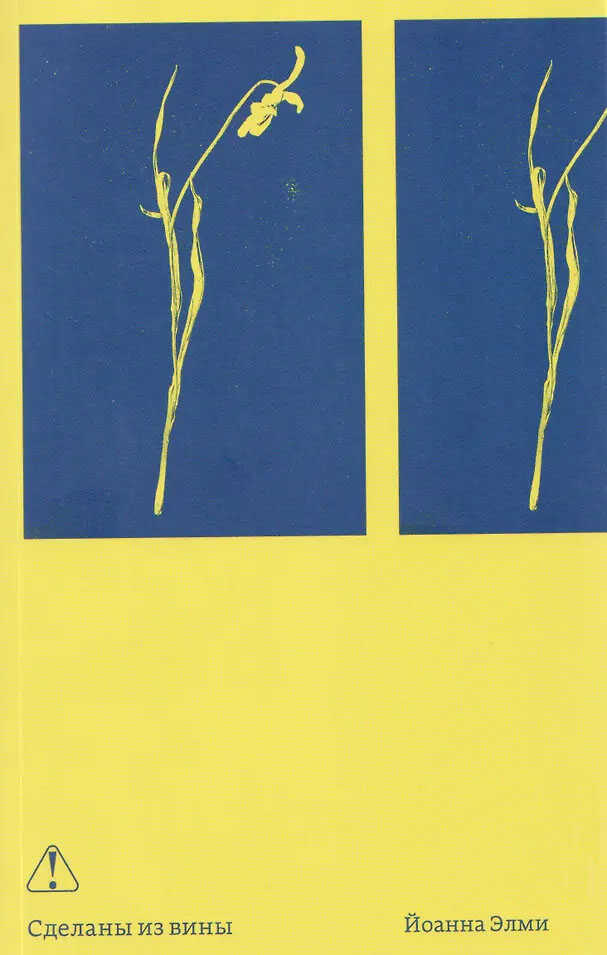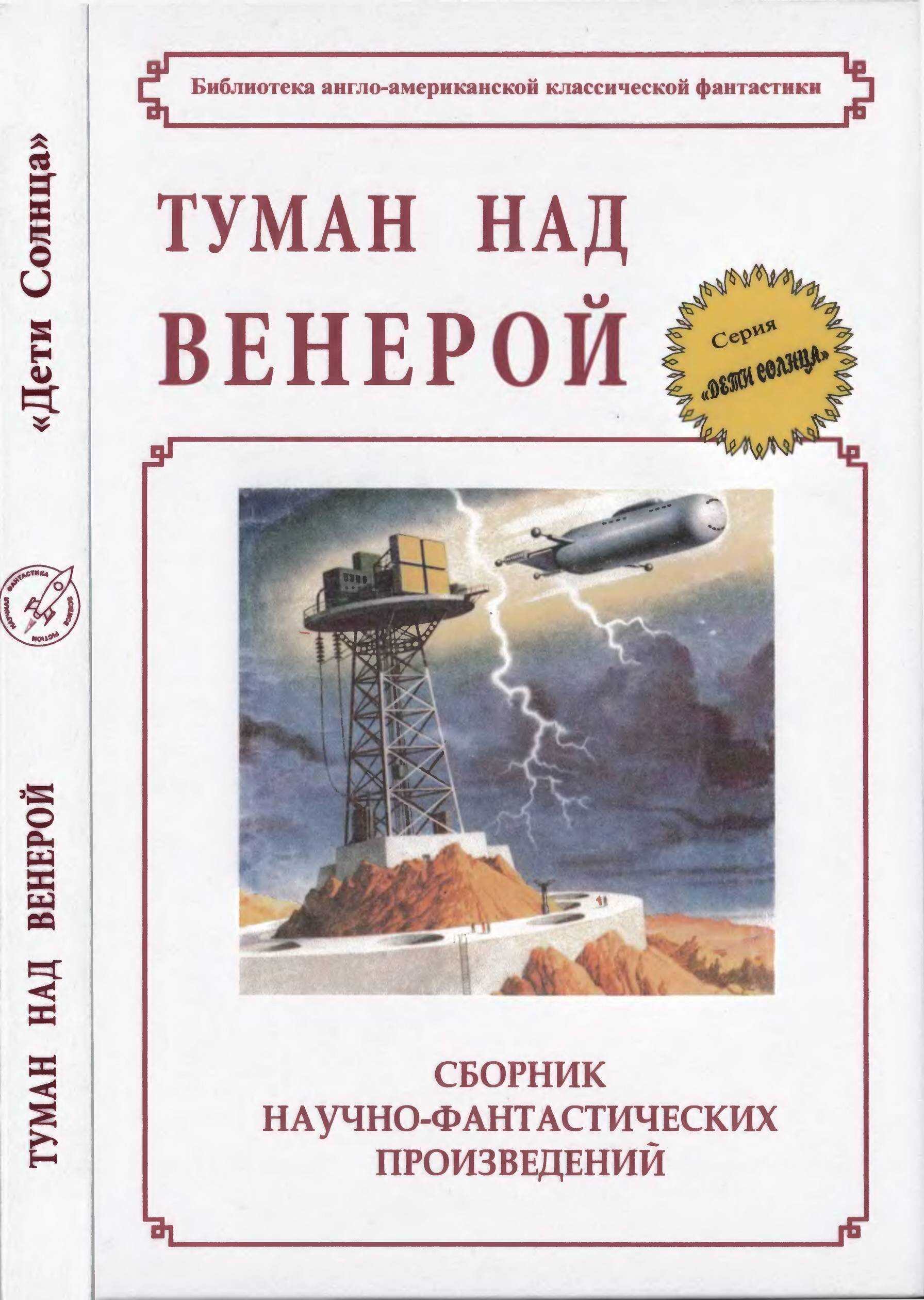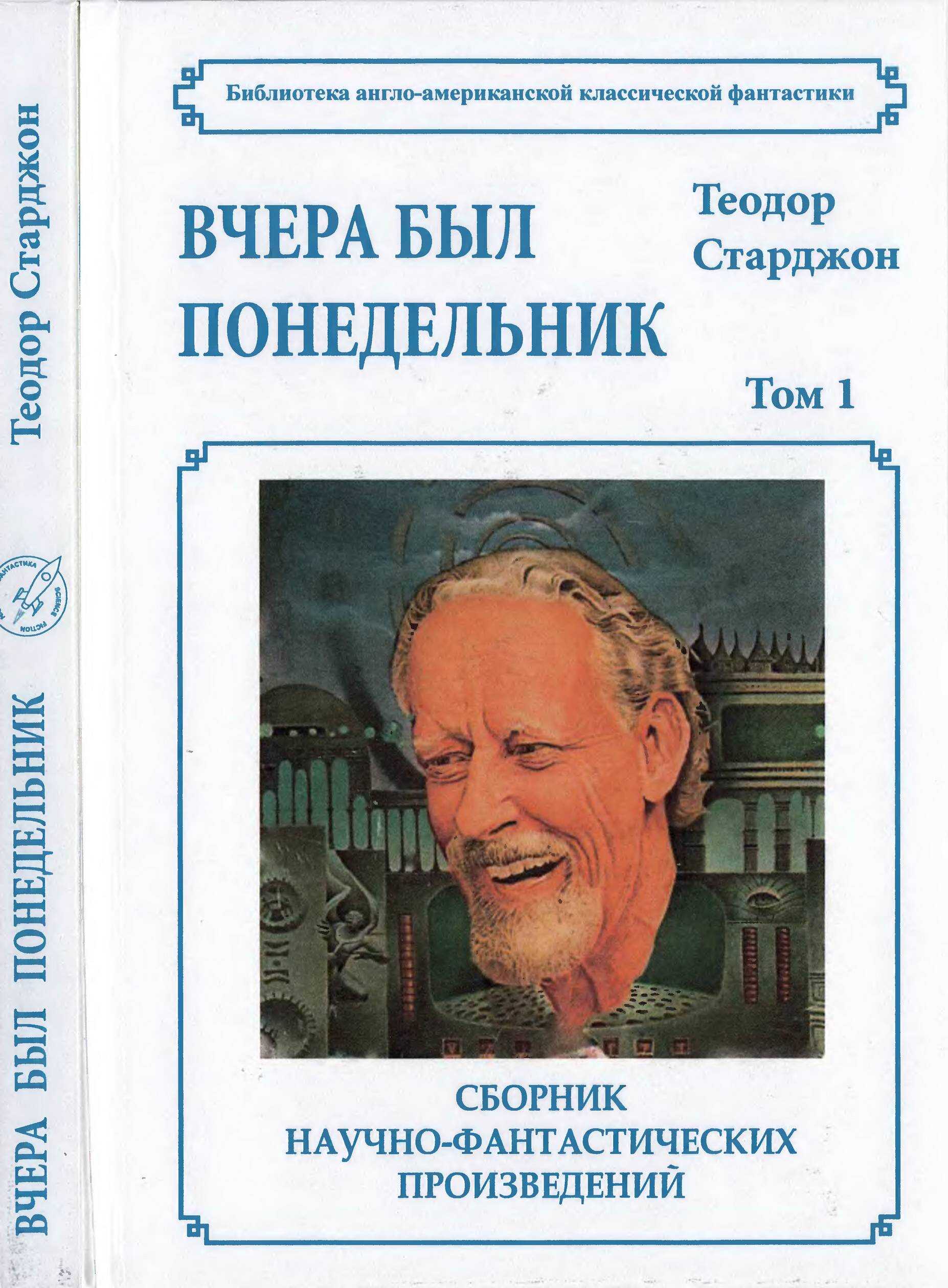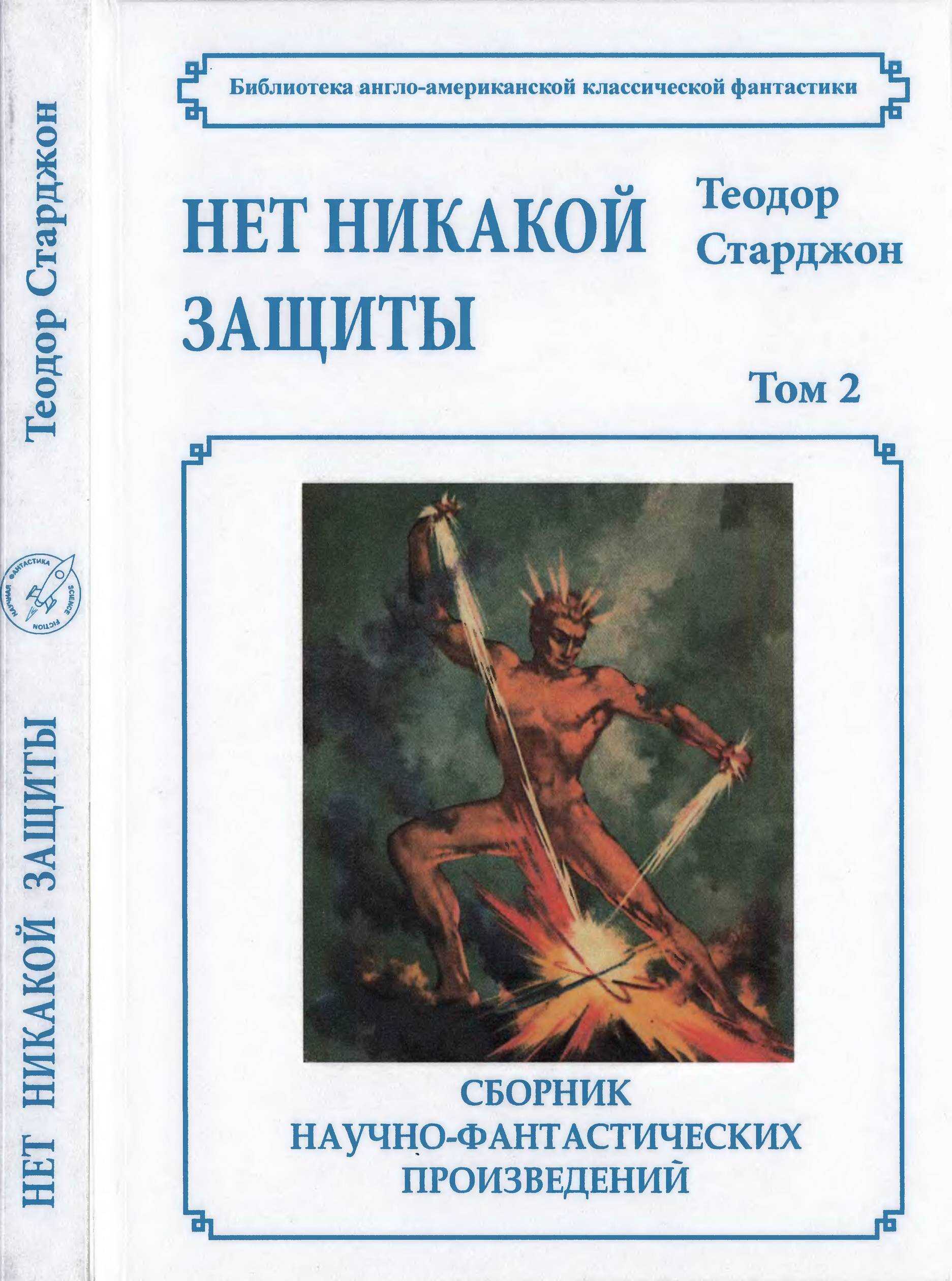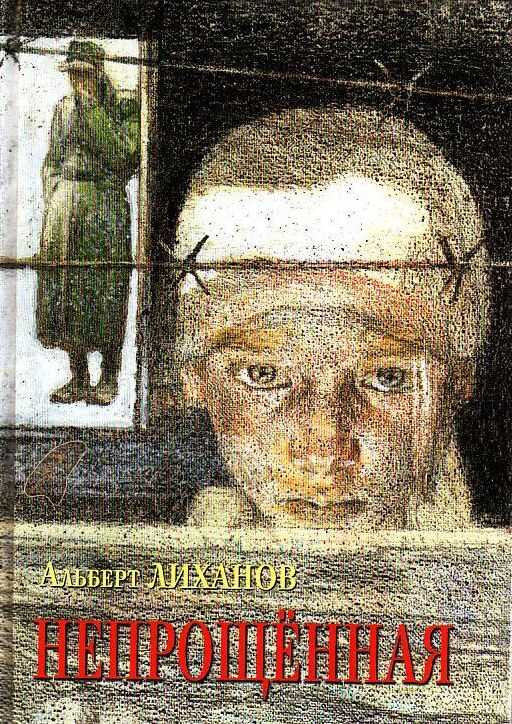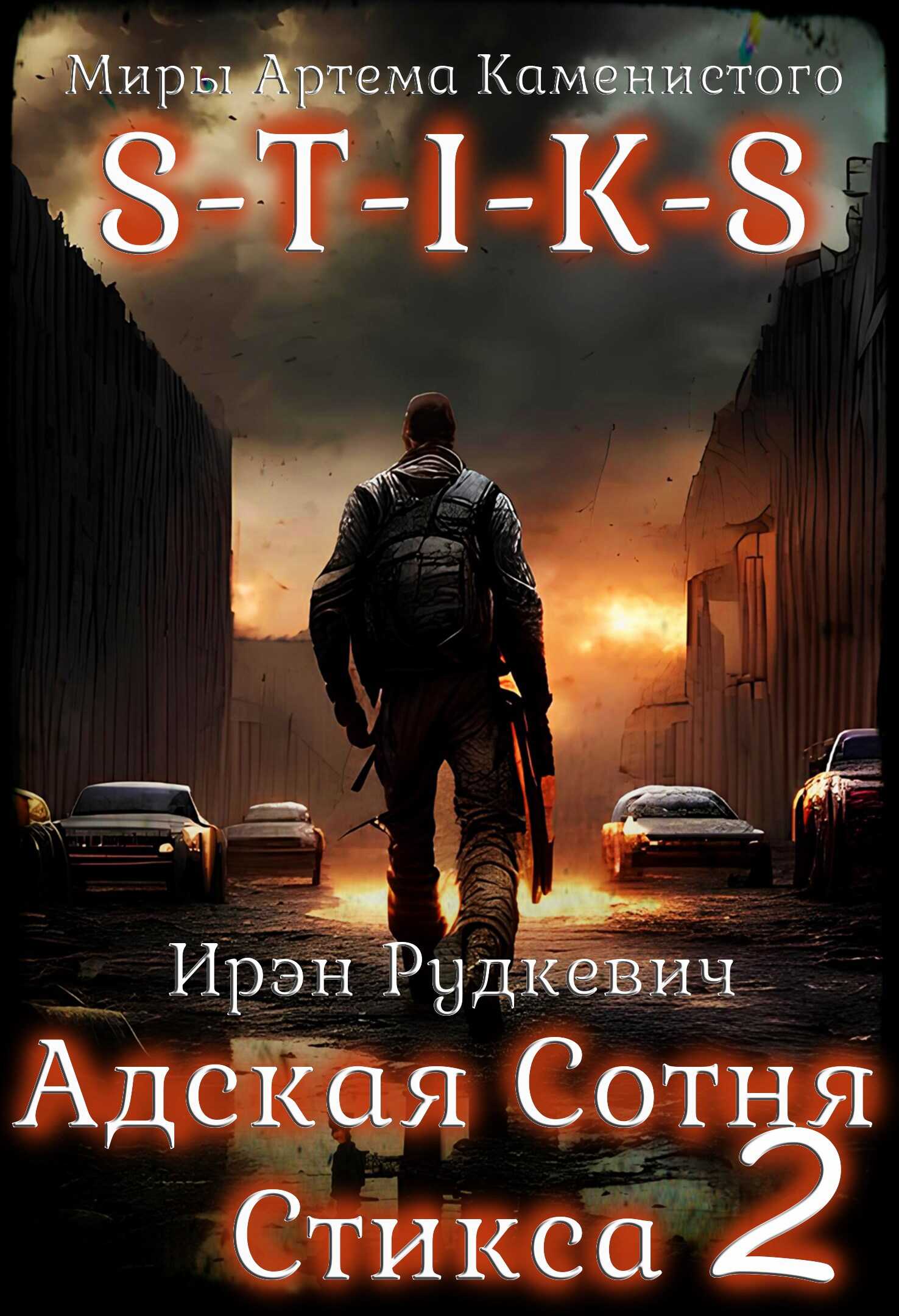и Филипу:
— Снимет оковов шестьдесят!
Оливер с Филипом кивнули. Не очень охотно, но — кивнули. Урбан подметил их, эти кивки двух таких разных и так критически настроенных людей, — и теплая волна удовлетворения захлестнула его.
В винограднике Эйгледьефки, по которому все четверо спускались на дно Волчиндола, они задержались дольше всего. Здесь Урбан понял, что Оливер — пусть он угрюмый, грубый человек, склонный даже к насильственным действиям, — в виноградарстве разбирается и виноградник свой обрабатывает на совесть. Урбан задался целью сблизиться с ним покороче, чтобы перенять у него все, что можно. Походив с полчаса, Оливер подвел всех к месту, где росли молодые, не старше десяти лет, лозы.
— Вот где собака зарыта! — злобно прошипел он, пиная ногой поникший стебель с увядшей, желтой листвой.
Этот жалкий кустик не был одиноким: около тридцати соседних, с пожелтевшими листьями, тоже бессильно повисли на кольях.
Габджа подошел к лозе, которую Оливер считал центром зараженного участка: кисти на ней не развились совсем. Это была очень слабенькая отводка, то ли поврежденная мотыгой, то ли пустившая слишком редкие корни. Взглянув на Оливера, Урбан взялся за верхушку растения и спросил:
— Можно?
— Тащи!
Урбан выдернул растение с корнем. Все наклонились, разглядывая наполовину почерневшие корешки. В складках коры главного корневища гнездились гроздья коричнево-желтых насекомых.
Мужики так и замерли, не исключая и Урбана. По очереди рассматривали они корешки самого убогого из Эйгледьефкиных саженцев — и молчали. Молчали, как молчат, когда приближается враг. А враг уже здесь, в Волчиндоле, на образцовом винограднике Эйгледьефки! Он уже впился в корни виноградных лоз, высасывает из них драгоценнейший сок. И это причиняет боль.
Оливер выругался — на сей раз не привычной бездумной бранью, а со смыслом, потому что видит: уже и сероуглерод не помогает. Спросил Габджу:
— Ты откуда знаешь про эту нечисть?
— Мне ее один человек из Голубого Города показал, он сам виноградарь из тех краев, я с ним в армии служил. Ездил как-то я с ним вместе в отпуск. Там на каждом шагу чему-нибудь да научаешься.
— А что за человек? — поинтересовался Апоштол.
— Такой же, как мы, только учился где-то виноградарству да виноделию — в какой-то школе в Западном Городе.
— Вот оно что! — Апоштол удовлетворен ответом. И решает, что с мнением Габджи стоит считаться.
Спустились на самое дно котловины и, перейдя дорогу, стали взбираться на Бараний Лоб; на самой его макушке, среди лиловатого щебня, разбил свой виноградник Филип Райчина. Он верен проволочным шпалерам; проволока провисает под тяжестью поспевающих гроздьев. Этому винограднику лет двадцать, он еще полон сил, и сорт хороший — ранний. Кроме Райчины, все считают, что здесь незачем задерживаться.
Через сад, через дорогу и еще через один сад, под тенью сливовых деревьев, перебрались на глинозем Молодой Рощи — во владения Апоштола. Виноград здесь вырос сильный, высокий, буйный — смотреть приятно. Земля тут влажнее и холодней, зато и плодороднее, чем по ту сторону Бараньего Лба. И ягода здесь крупнее, только она не так прозрачна, как, скажем, в Урбановом винограднике на Волчьих Кутах.
Подойдя к отводкам португала, увидели: почти все стебли полегли. Светлые побеги не дотянулись и до середины кольев, а ягоды на них уже почти зрелые, черные.
— Мне все кажется, будто это люди лежат больные… молодые люди, постаревшие до времени… — горестно вздохнул Апоштол.
— Хочешь меня послушать, Павол? Не делай отводок! Старый ствол филлоксера осилит не так быстро, как молодой, — посоветовал Габджа.
Апоштол, нагнувшись, ухватил огромной ручищей верхушку ближайшей лозы, выдернул вместе с колом и сунул Урбану.
— На, покажи мне, где эти вши!
Урбан осмотрел куст: все его тоненькие корешки сгнили еще, пожалуй, в прошлом году; он отколупнул кору на главном корне, который когда-то был побегом, и поднес к глазам Апоштола.
— Вот они!
— Что ж, пошли по домам… — растерянно предложил Райчина, убедившись наконец в правоте Урбана.
Трое пошли вниз по дороге; Урбан свернул наверх, к Долгой Пустоши и, пройдя по дорожке, обсаженной шиповником, поднялся на Воловьи Хребты, где у него был второй виноградник. Пока шел сюда — спешил, не глядел по сторонам, а теперь, в своем владении, бредет медленно, взглядом замечая каждую мелочь. То и дело нагибается, отводит листья — так лучше видны гроздья. Пытливо оглядывает их Урбан, оценивает на глаз. Виноград на Воловьих Хребтах сравнительно молодой, сильный, и — что особенно ценит Урбан — сорта здесь по большей части хорошие, например хрупка, рислинг, сильван и вельтлин; эти не поднесут тебе никаких сюрпризов. А главное — они не кислые.
Урожай, похоже, будет сказочный. Урбан мысленно уже выплатил проценты и часть долга Экономическому банку в Сливнице. Но он настолько честен перед самим собой, что не позволяет себе загордиться, хотя от радости буйная кровь бросилась ему в голову, а в глазах стоит туман. Поднял голову к солнцу. Оно уже проплыло часть своей раскаленной августовской орбиты и мягко клонится к Болебруховым каштанам на границе двух владений: волчиндольского и охухловского.
Чувствует Урбан: что-то горячее плеснулось в его груди. И спрашивает без слов: «Господи, отчего так горит мое сердце?»
Он спускается в сад, где яблони и сливы уже закраснелись, забагрянились зреющими плодами. И только тут понимает: это радость охватила его, — та самая радость, что приходит лишь раз в году, когда близится пора созревания.
Урбан остановился у американских черенков. Весной прислал их ему приятель из Голубого Города. Урбан высадил их у себя на месте погибших виноградных лоз. Около восьмидесяти черенков принялись хорошо. Они немного смахивают на ивняк, хотя носят сложное иностранное название: «Riparia berlandieri»! Ладно, бог с ним, с названием, — главное, что «американцы» размножатся раньше, чем филлоксера нападет на его виноградник. Урбан знает — когда-нибудь это случится, но, может быть, он получит отсрочку на два-три года. Тогда он начнет перекапывать виноградник и прививать, и подсаживать. Стало быть, филлоксера не так сильно беспокоит его. И то, что ему не надо очень уж беспокоиться и спешить, тоже доставляет ему радость.
Вдруг он услышал мелкие шажки. Совсем рядом высоко взметнулся ясный детский голосок:
— Тата!
Это маленький Марек — летит, раскинув ручки, прямо в отцовские объятья Урбан высоко поднял сынишку, прижал к себе. Мальчик сидит у него на руках, совсем как святой младенец, изображенный в боковом приделе зеленомисского храма.
Кристина поднимается садом. Шаг ее грузен, зато сама она великолепна: тяжелая и широкая, а лицо совсем детское, полное любопытства. Бешено заколотилось сердце Урбана. Не понимает, что с ним случилось: столько раз за это лето видел тяжелую поступь жены, но никогда ничего подобного не чувствовал в сердце! Сердце Урбана


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)