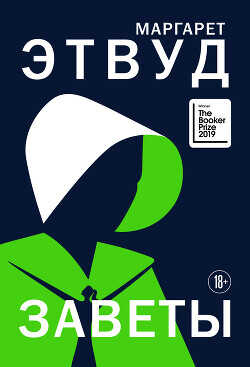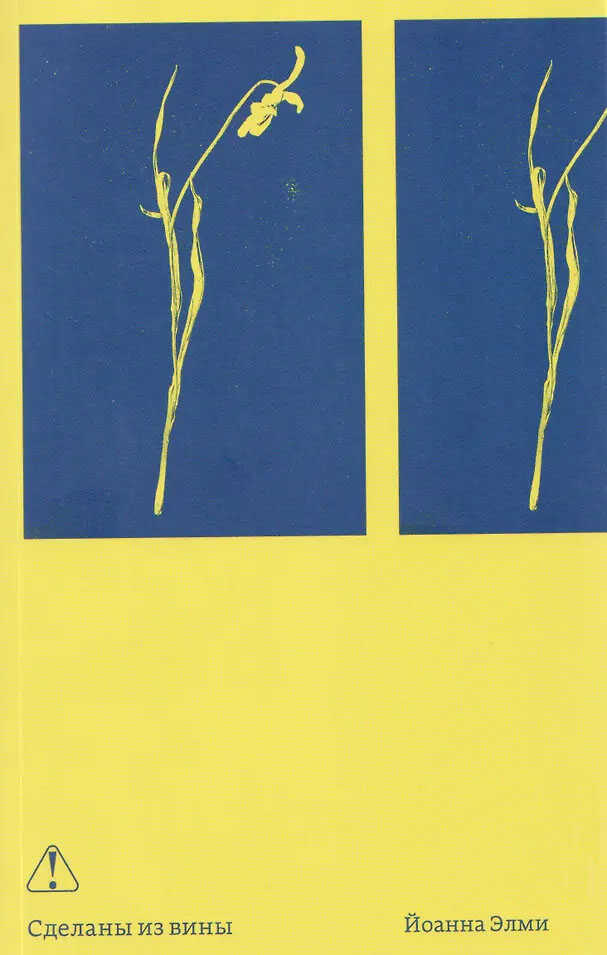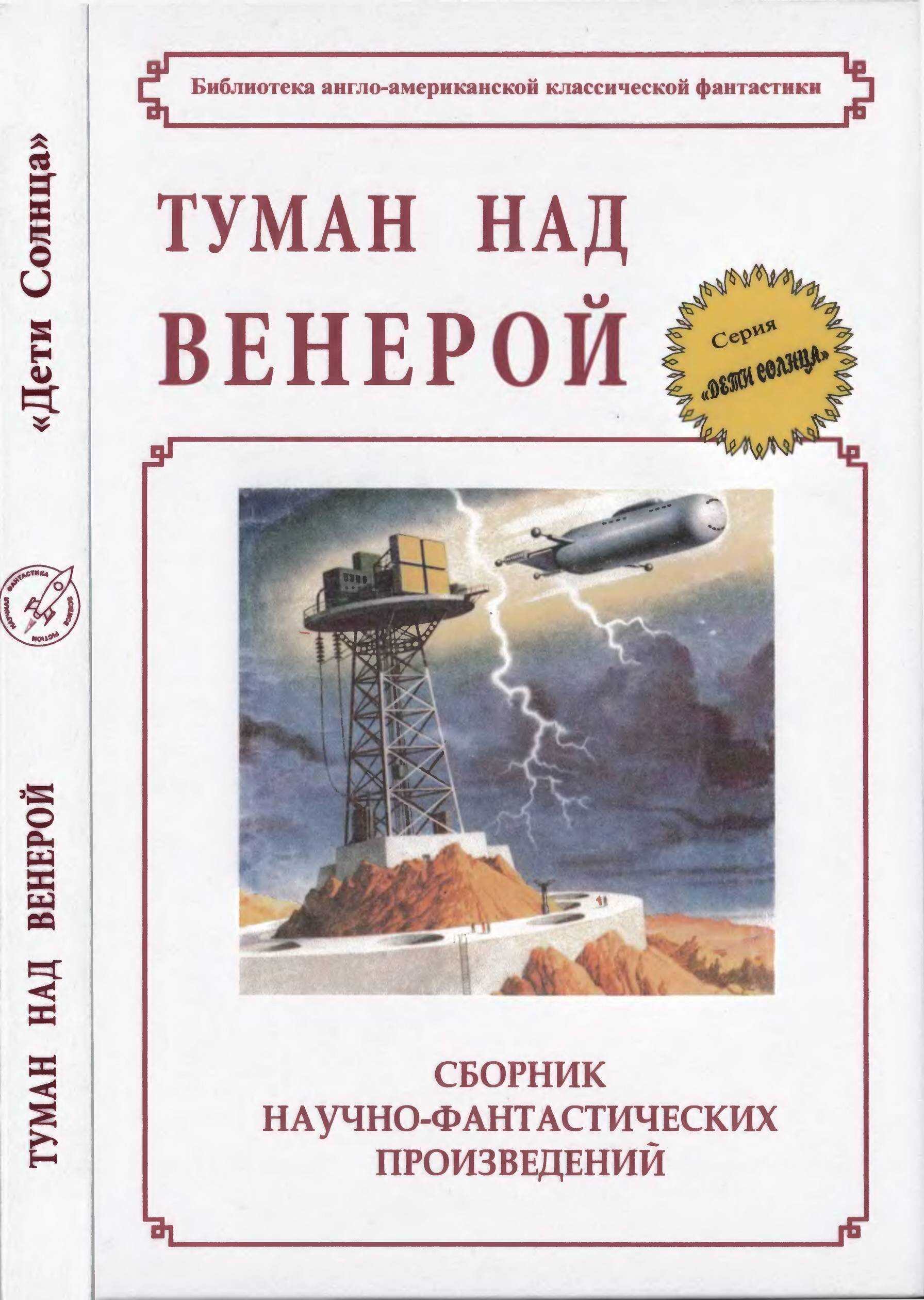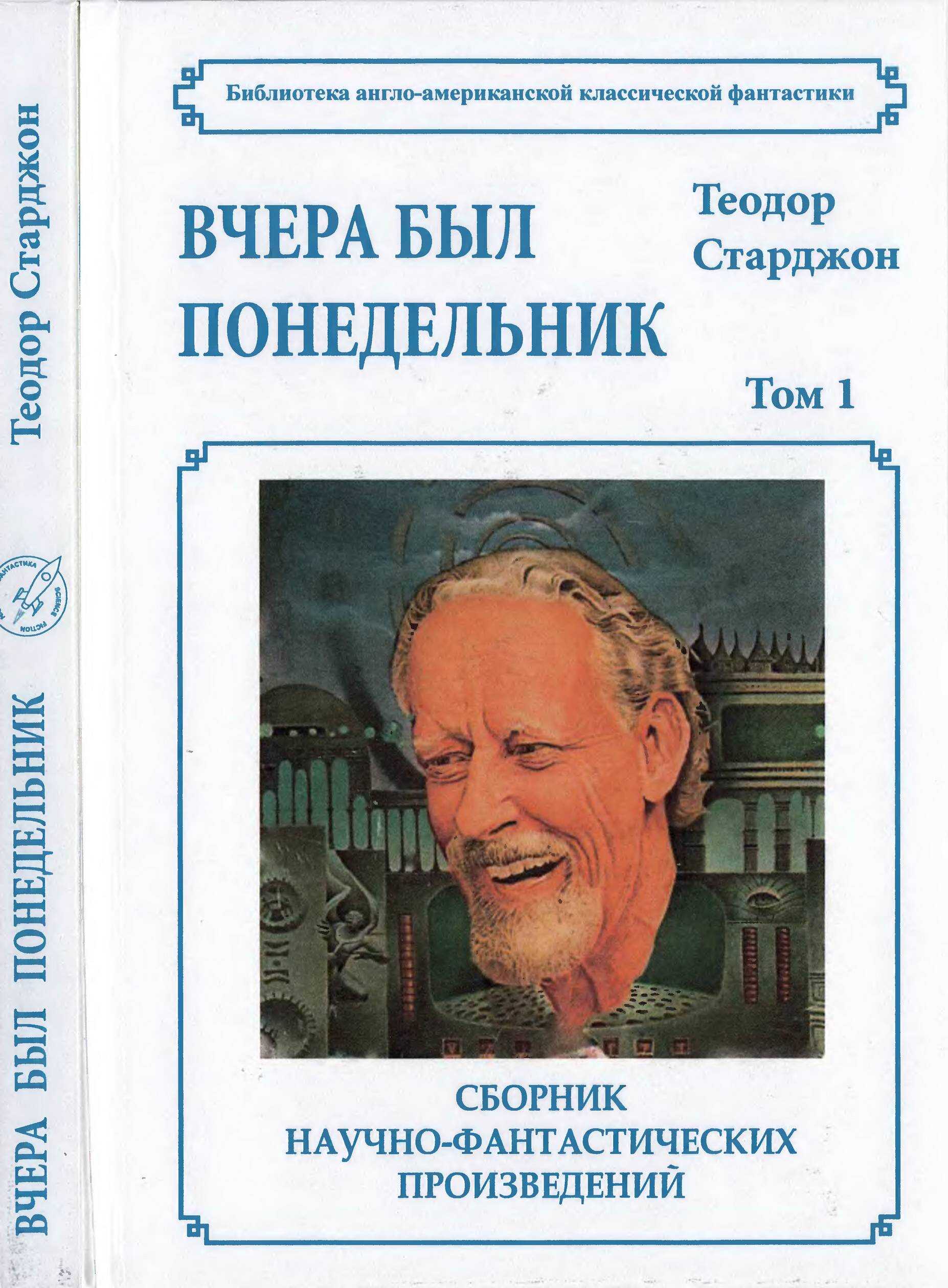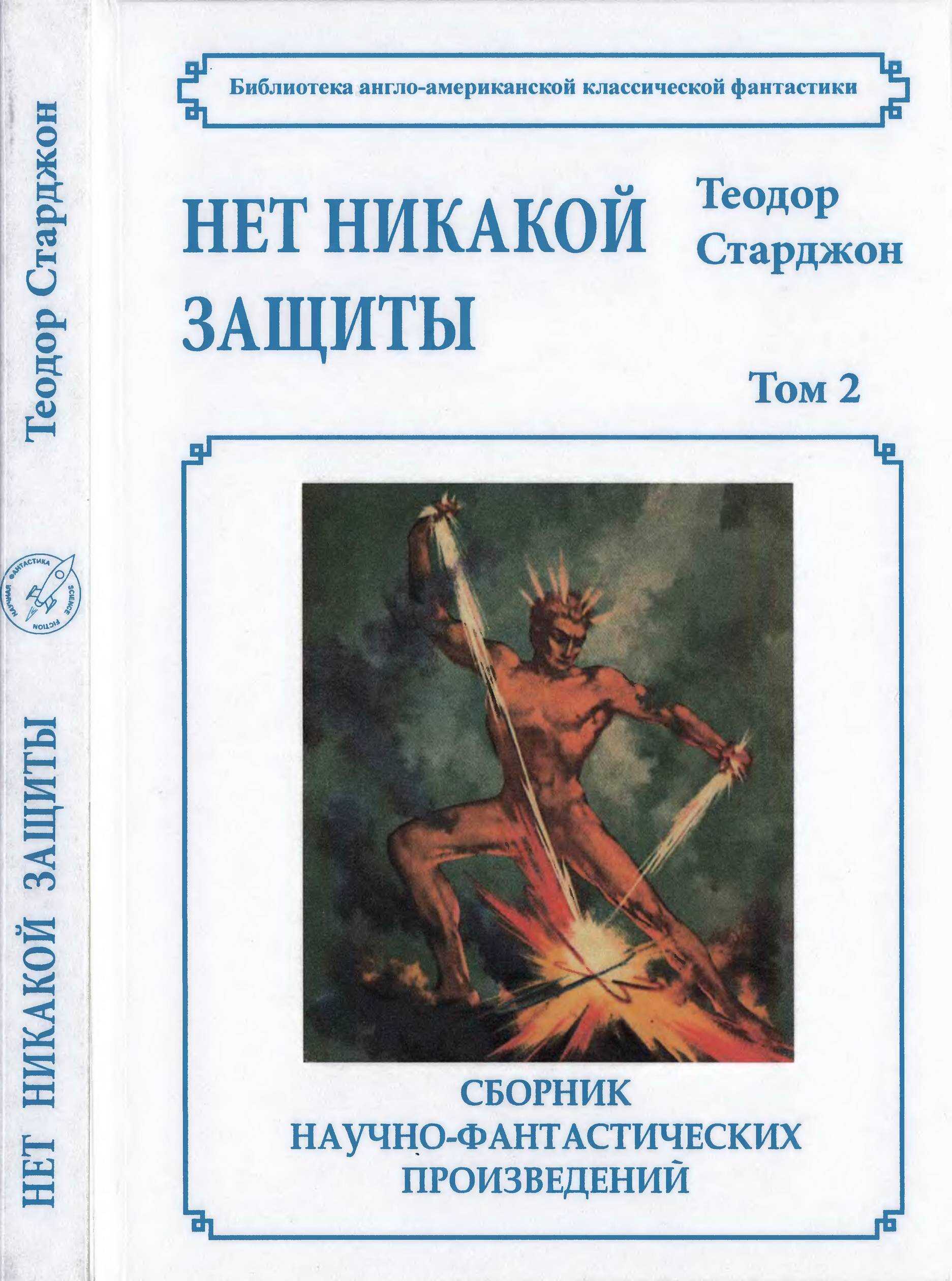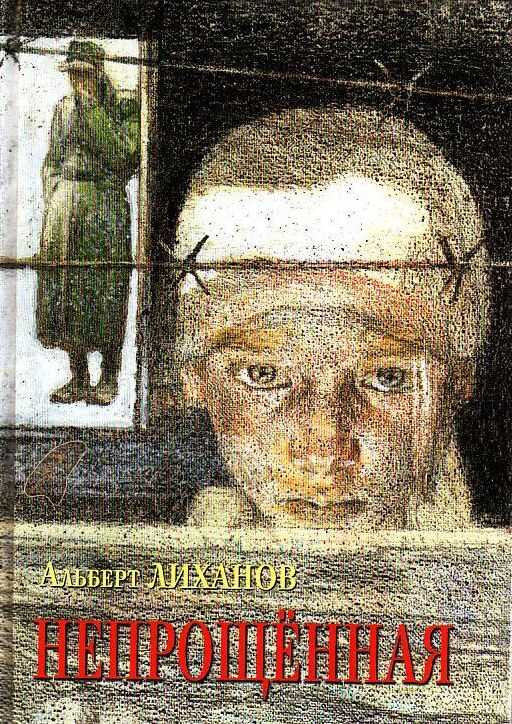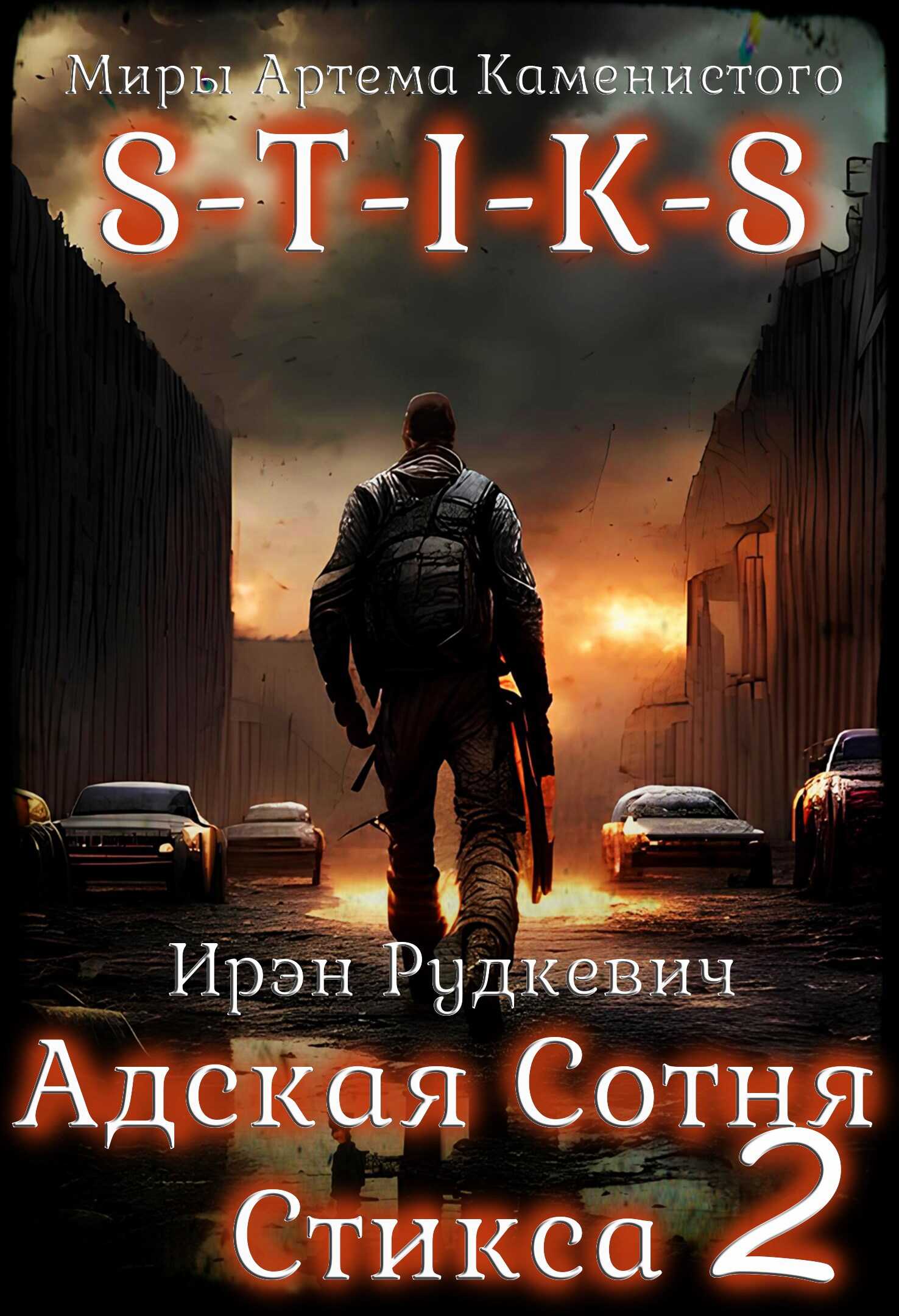и в землю закопано, и с лозою к кольям подвязано, и к Кристине устремляется — и все это разом, одновременно!
— Мама! — кричит Марек: хвалится, что отец несет его.
Мужчина с ребенком и женщина сели на лавочку; еще весной Урбан сколотил ее, поставил под яблоней-астраханкой. Сели, чтобы помолчать немного о великой милости, что росой падает на окутанный сумраком Волчиндол. Но Марек не умеет молчать, он все что-то лепечет, рассказывает, спрашивает… Приходится отдать ему все внимание и, устремив на него две пары родительских глаз, любоваться его прекрасной жизнью, которую сами же ему подарили…
ВЫБОРНЫЕ
В день Косьмы и Дамиана, выпавший на воскресенье, когда сладостью наливались гроздья под сентябрьским солнцем, особенно милостивым в тот год, в общинной винодельне среди кадок, чанов, бочонков и прочей утвари заседали выборные волчиндольского общинного совета. Выборных — восемь, но присутствует десять человек, а именно: глава общины, староста Венделин Бабинский, первый выборный и помощник старосты Томаш Сливницкий, второй выборный и общинный казначей Шимон Панчуха, член совета, вирилист[7] Сильвестр Болебрух, члены совета Флориан Мачинка, Павол Апоштол, Филип Райчина и Оливер Эйгледьефка. Кроме них, пришли общинный винодел Ондрей Кукия и волчиндольский сторож, служитель при совете и письмоносец Штефан Червик-Негреши.
Заседают в поте лица.
Сидят с самого полудня. Сначала, как водится, перебрали и обсудили каждый волчиндольский виноградник, прикинули и официально установили, каков будет урожай. Когда же начало смеркаться, расселись поудобнее за столом: пора было приступить к предметам более приятным. Предметы более приятные, — то есть четырнадцатилитровая, с двумя ручками, посудина — четверть, четвертая часть окова — с малагой урожая этого года, корзиночки с нарезанным хлебом и салом уже стоят на столе, дразня аппетит.
Староста собирается с мыслями для последней серьезной речи. Скрипнула задняя лавка — поднял достойный староста свое дородное тело. Устремил добрые очи свои на сидящих за столом, развел руками, широкими, как лопата.
Хлоп!
Червик испуганно вздрогнул. Злые Панчуховы губы процедили в нетерпении:
— Слушаем! Слушаем!
Староста начал свивать тугую нить своей предуборочной речи:
— Уважаемые выборные! Каждому из вас — доброго здравия!
— Да услышит вас господь, — благодарят выборные.
— Говорю вам: время пришло! С божьей помощью дождались мы сбора. Благодарим господа бога за благословение, солнце за восхождение, святого Урбана за бережение! Хвала ветру за повевание, хвала дождю за поливание, земле хвала за плодородие! Пришла пора и уже переливается через край.
Он взял деревянный ковшик, зачерпнул из четверти, разлил по стаканам, называя каждого по имени. Названный подставлял стакан. Староста налил первому — Кукии, второму — Червику, затем всем членам совета, выборным, вирилисту, казначею, своему помощнику и последнему — себе. Все держат стаканы в руках, но не пьют еще — староста продолжает речь:
— И я говорю всем: сбор винограда в Волчиндоле начинать через неделю, считая от завтрашнего дня, то есть в понедельник пятого октября!
— Поздновато! — пискнул Панчуха.
— Молчи! — прикрикнул на него Болебрух.
— Спрашиваю выборных: принимают ли предложение?
— Принимаем! — одобрительно ответил Сливницкий.
Староста сказал тогда:
— И еще я спрашиваю выборных: не послать ли нам по литру этой малаги, что уродилась на нашем славном общинном винограднике, в каждый волчиндольский дом, — а таковых насчитывается тридцать три, — с наказом от общинного совета выходить на сбор в понедельник, день пятый месяца десятого?
Это предложение вызывает восторг. Никогда еще в общественной винодельне не выдвигалось и не голосовалось ничего подобного! Все поднимают стаканы с возгласами:
— Да здравствует староста Венделин Бабинский!
На этом официальная часть заседания кончается. Собравшиеся принимаются за еду и питье. Староста послал Кукию с Червиком-Негреши разнести по домам вино, как решил совет, и сообщить жителям сроки сбора. Когда эти двое ушли, Бабинский посвободнее рассадил всех за столом — чтоб дышать было можно и размахивать руками. Панчуху и Болебруха он поместил на разных концах стола. Не нравится ему, что Оливер Эйгледьефка занял место рядом с Болебрухом, но спорить с Оливером ему сейчас неохота.
Так! С Бабинского разом слетает вся служебная деловитость. Доброта разливается по его лицу — от лба и вниз, через голубые глаза, до самого рта, и раздвигает его в улыбке. Под пышными свисающими усами, в длинной щели рта блеснул ряд здоровых зубов. Возле Бабинского — Павол Апоштол, ростом немного ниже, зато шире и тучнее; вырезать бы для него в столе полукруглое отверстие, чтоб мог Апоштол уместить свое огромное брюхо! Между старостой и Апоштолом восседает Томаш Сливницкий, старейший волчиндольский выборный — что-то вроде местного пророка, старик с совершенно лысой головой. С некоторых пор он взял себе за правило следить, чтоб Бабинский не слишком подпадал под влияние Панчухи с Болебрухом. И если вдуматься, то нетрудно заметить, что настоящий-то староста в Волчиндоле и есть Сливницкий.
У Шимона Панчухи только голова торчит над столом, только его злое лицо с точно дубленой кожей. Лицо Панчухи чем-то напоминает голову хищной птицы. А Сильвестр Болебрух, или Большой Сильвестр, как его называют в Волчиндоле, уселся за противоположным концом стола; он словно не сидит, а стоит: он самый высокий человек в Волчиндоле. Да и вряд ли во всем Сливницком округе найдется хозяин, который сравнялся бы с ним ростом, богатством и спесью.
У Филипа Райчины лицо красное и волосы красные; он весел и страшно задирист. Похож на него, только совсем светловолос, Флориан Мачинка — человек всегда грустный, хотя и без видимой на то причины, потому что живет он хорошо. Кажется, нет у Мачинки другого врага, кроме собственного желудка, который отказывается ему служить, как должно. Оливер Эйгледьефка — самый молодой из выборных, но не заслуживает больших похвал. Его хорошее качество — жадность к работе. Тут его никто не переплюнет, — равно как в пьянстве, сквернословии и прочих безобразиях.
Когда поели хлеба с салом, староста заставил младшего — Эйгледьефку — наливать в стаканы вино. Рябой зачерпнул ковшиком в четверти, стал выкликать по именам; наливал не от низшего к высшему, как это делал староста, и не от высшего к низшему, как полагалось бы по службе. В Оливере Эйгледьефке нет ничего служебного, порой накатывают на него порывы озорной справедливости — и наливает он по заслугам: первому Сливницкому, второму — старосте, после него — Райчине, Апоштолу, Мачинке, под конец — себе.
— А вы сами себе лейте! — процедил он сквозь зубы Болебруху и Панчухе, сердито сверкнув на них глазами. И положил ковшик.
— Разбойник! — просипел Сильвестр, берясь за ковш.
— Свинья! — добавил Панчуха в адрес Оливера.
— Но-но-но! — поднялся с места Сливницкий. — За наше здоровье!
И он чокнулся со всеми по возрасту: начиная со старшего, Панчухи, и кончая младшим — Оливером.
Пьют.
С детства привыкшие к


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)