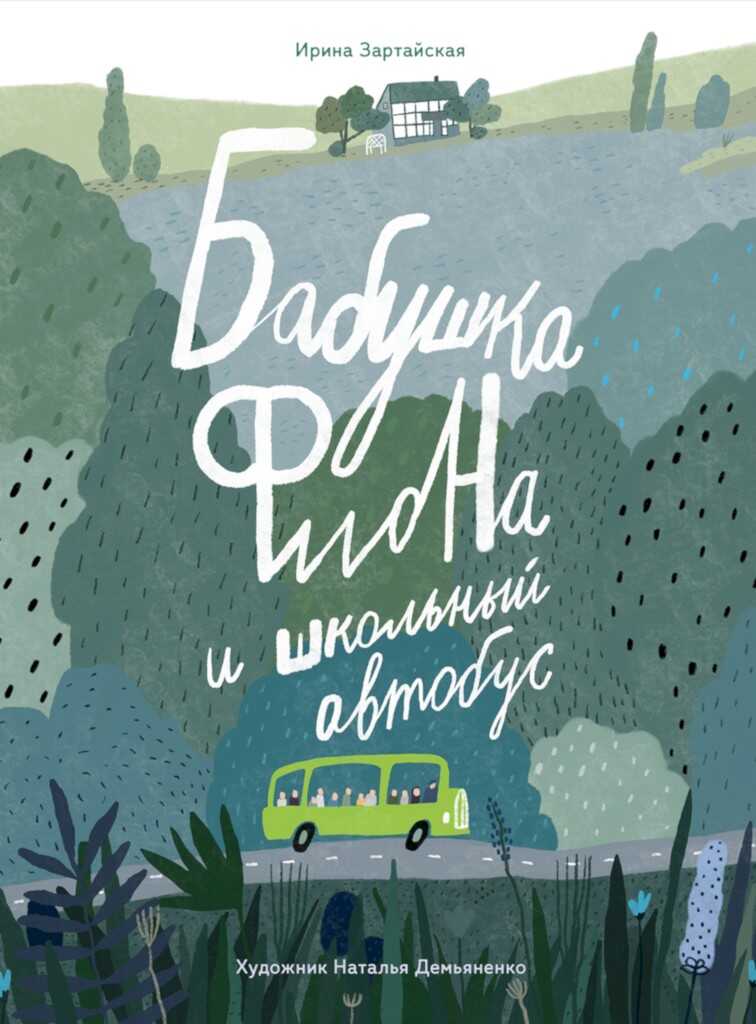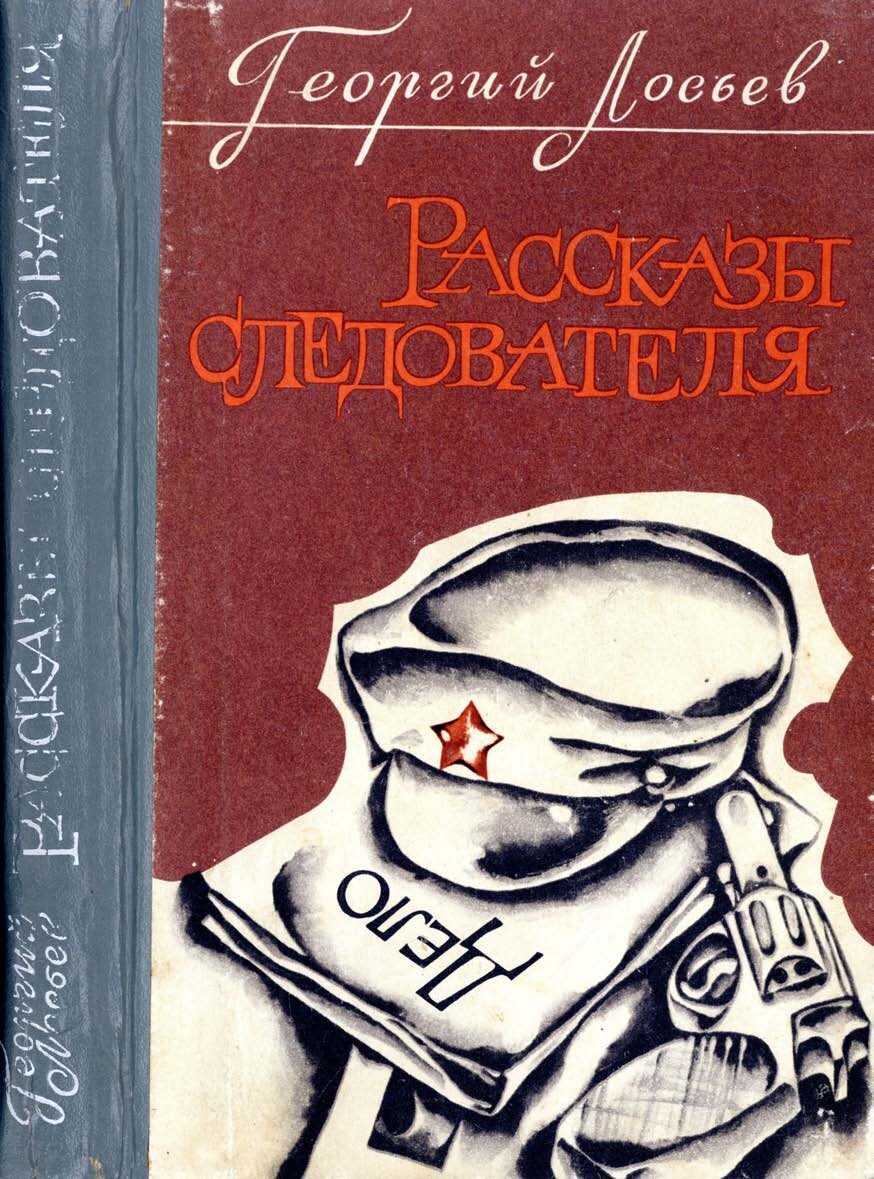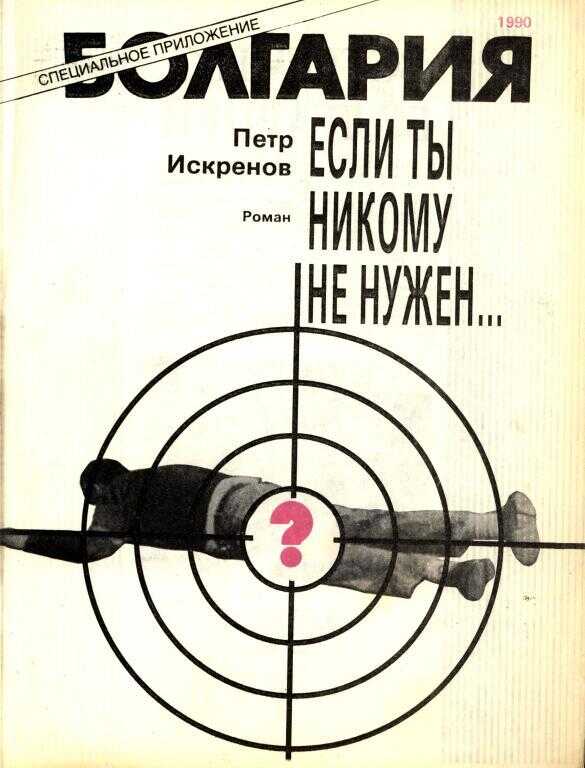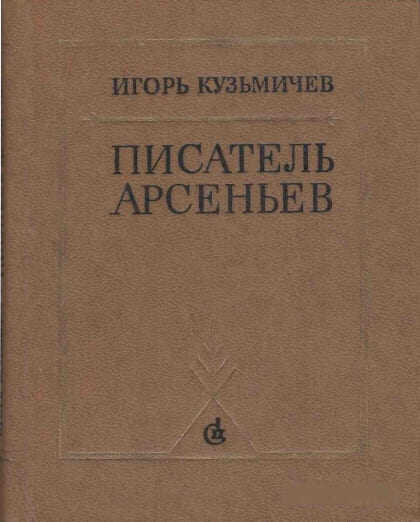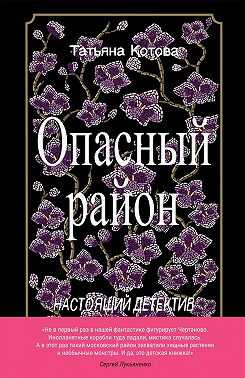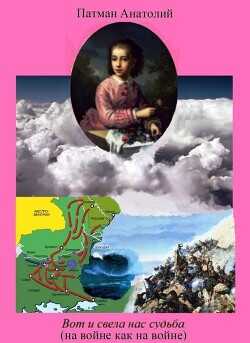со злости. Посмотрит на Магдаленку — девчонка уже совсем заневестилась, — и выпьет: хочет утопить в вине думу, что бедной девушке закрыта дорога к зажиточной жизни. А если она еще и красивая — значит, пойдет служить, и в покое ее не оставят: до тех пор будут приставать похотливые мужики, пока не сломят… А тогда — все к черту!.. Посмотрит Урбан на сына своего Адамка, школьника, — и выпьет. Голова у парнишки не хуже, чем у Марека, учиться бы ему… Но он не будет учиться. Как смешно: ученые люди вырастают там, где много денег, а вовсе не там, где ясный и сильный ум. Если есть деньги, любого олуха можно обучить, чтоб был учителем, инженером, врачом. А одаренный ребенок, если родился в бедности, знает один удел — батрачить у Большого Сильвестра. И о Мареке как подумает Урбан, — так и выпьет. Учится последний год. Быть может, и удастся закончить. А потом… что потом? Сделается хозяином после бабкиной смерти, если… пошлина за введение в права наследства не поглотит всю землю. Или писарем пойдет, если место получит… Махнул рукой Урбан, будто муху отгонял, и увидел Кристину. Стояла у плиты, такая худая, сгорбленная… Испугался, не больна ли опять? Не было бы ничего удивительного…
— С другим лучше бы тебе жилось, — пожалел он ее. — Люди говорят, ты с земли фасолинки подбираешь, пока я сотни трачу… И это правда! — с еще более острым чувством жалости сознался он.
— Ах, Урбан, ешь!
На столе стоит миска картофельной похлебки. Урбан Габджа опускает в нее ложку. И чудится ему, будто собраны в миске все беды, сколько их есть на свете. И даже, если прищурить глаз, ему явственно видится, что вместе с ним к миске тянутся еще и другие руки. Одна, две… десять. Ровно столько, сколько знает он бед. Десять тощих волосатых рук. Некоторые покрыты болячками. Но самая отвратительная из них — рука с сочащимися ранами. Это рука неумолимого владыки, имя которому — Долг!.. Самая жадная из всех рук, что вместе с едоком тянутся к миске в семье бедного виноградаря…
«ДО ПРИЗЫВА ТРИ НЕДЕЛИ ВПЕРЕДИ…»
После выпускных экзаменов Марек Габджа возвратился в Волчиндол днем раньше, чем следовало. В необычайно ранний час вышел он воскресным утром из поезда на блатницкой станции; солнце еще не всходило. Никто не встречал его — и это было хорошо. Марек не любит, когда за ним ухаживают. С малых лет предпочитал он пробиваться к цели своими силами, не ожидая помощи других. Чемодан с бельем и книгами, мешок с подушкой, костюмом и конской попоной, под которой он спал все шесть лет своего обучения, он и сам донесет. Пойдет не спеша, отдыхать будет, — торопиться ему некуда.
Вольно и радостно у него на душе. Он не жалеет, что не остался на выпускной вечер, который в субботу устроили его товарищи в знак прощания с академией и друг с другом. На вечер пригласили много гостей, главным образом девушек из «хороших семей». На еду, питье и танцы внесли по триста крон с человека. С Марека денег не спрашивали. Но ему претило прощаться за чужой счет. И он выскользнул из интерната, оставив на столе длинное письмо, настоящую прощальную речь. Вероятно, письмо прочитали на вечере от слова до слова. Марек уверен: такая прощальная речь гораздо приятнее товарищам, чем если бы он остался сам. Долго будут поминать его добром. И всякий раз вздохнут: «Бедняга Марек Габджа!»
И вот, пока они в этот ранний час валяются, как боровы, на койках, не раздевшись, не прикрывшись одеялом, и время от времени бегают в уборную «славить Давида», Марек Габджа идет по проселочной дороге, через блатницкие поля, домой в Волчиндол. И в голове у него роятся такие славные, такие торжествующие мысли, как если бы он возвращался после боя, одолев по меньшей мере трехглавого дракона. Он часто останавливается отдохнуть — чемодан тяжел, а бесформенный мешок неудобен. Над блатницкими полями стоит запах свежескошенного сена и соломенный аромат зреющих хлебов. На некоторых полосках виднеются крестцы сжатой ржи. Какое трепетное чувство рождает в груди Марека эта широкая равнина! Она словно прогибается под бременем обильного урожая, — и в то же время как бы парит над землей, приподнятая тишиной, исполненной сладостного покоя. Уже совсем светло, скоро взойдет солнце; раскаленным колесом выкатится на востоке над ровной линией горизонта. И Марек обратится к нему с приветом — одинокий человек посреди этой грузной и все же столь легкой земли… Он стоит посреди созревающей ржи, и кажется ему, что он — единственный, кто не спит сейчас на всем белом свете. Будто он несет караул при этом богато накрытом столе. Ошибается Марек! Он не один, хотя вокруг мертвая тишина. Он слышит, как бьется его собственное сердце, как, тихо шелестя в висках, струится в жилах его кровь. Но что это? Сначала с ближнего поля пшеницы раздался тоненький писк — будто только что вылупившийся цыпленок просыпался к жизни. Этот писк сбил мысли Марека; но только он умолк, как за спиной юноши послышался более смелый звук, очень похожий на голосок Адамка, когда тот был совсем маленьким — так он просил есть, просыпаясь. Не успел Марек оглянуться, как начался концерт: звонкие трели выметнулись из зреющих хлебов, как искры из пламени! Десять, пятьдесят жаворонков принялись за дело, с каждой минутой трудясь все усерднее и благоговейнее. Половодьем разлился по полю птичий щебет. Золотым сверлом ввинтился в небо. Снопами брызг бьет он с земли вверх, дождем осыпается на землю. Громко смеясь, шел по полю Марек со своим чемоданом и мешком. Никогда еще не слышал он такого концерта. Жаворонки стараются превзойти самих себя, и искусство их столь высоко, что студент снова останавливается — слушать. Так стоит он и слушает, озирается на все четыре стороны — и вдруг, обернувшись к востоку, замирает в восторге: из-под земли, где-то за Блатницей, из розовой дымки, выдавилось солнце… Будто исполинское семя земли всходило под пашнями! Будто говорило ему: «С добрым утром, Марек, привет тебе!» И пение полевых птиц звенело как прославление нового дня, зачинающегося вот в эту минуту во всей своей красе и торжестве…
На вершине Волчьих Кутов выпускник немного постоял. Волчиндольская расселина еще спала в полутени. Только Оленьи Склоны и Долгая Пустошь уже залиты были солнцем. Волчьи Куты озарятся попозже. Спит Волчиндол. Не дымят еще трубы на крышах. Пышно разрослись виноградные лозы — пора подвязывать. Сорняки забили междурядья. Работенка ждет немалая! Марек нагнулся, чтоб по завязям определить виды на


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)