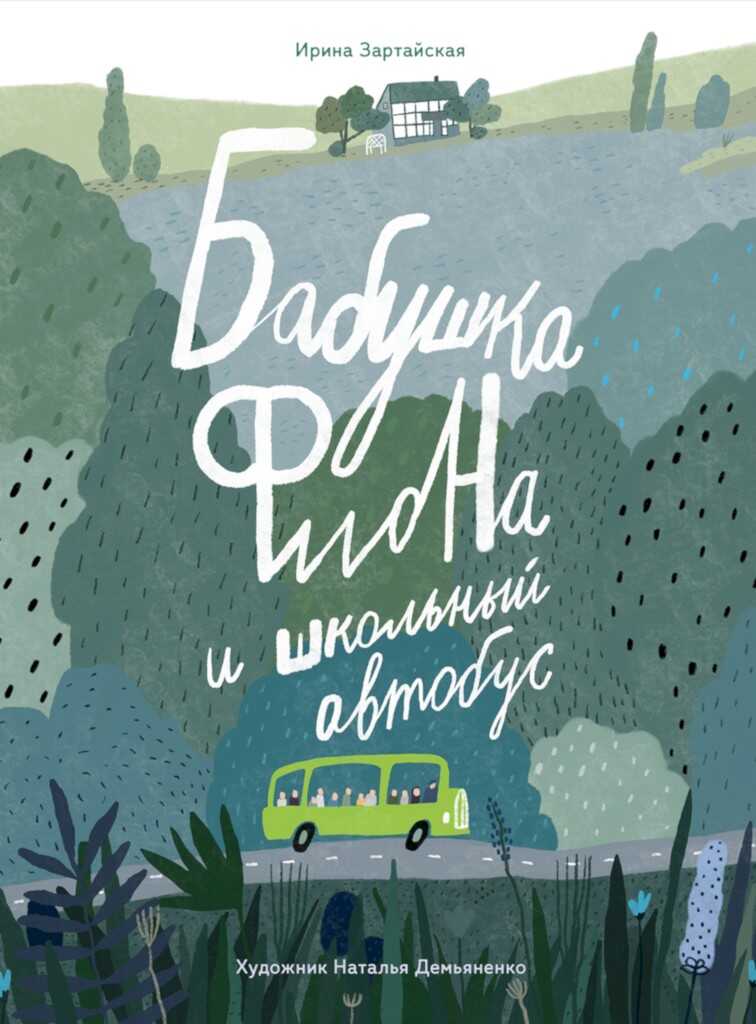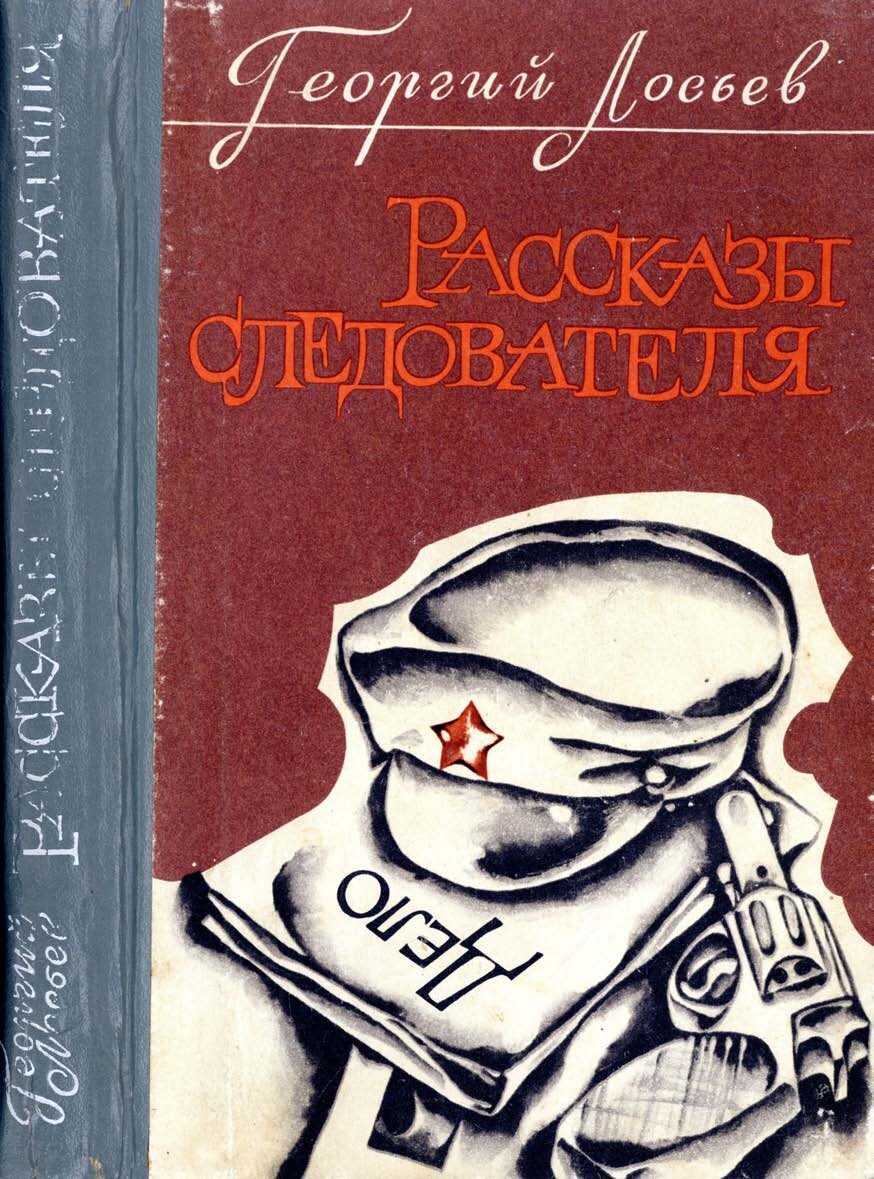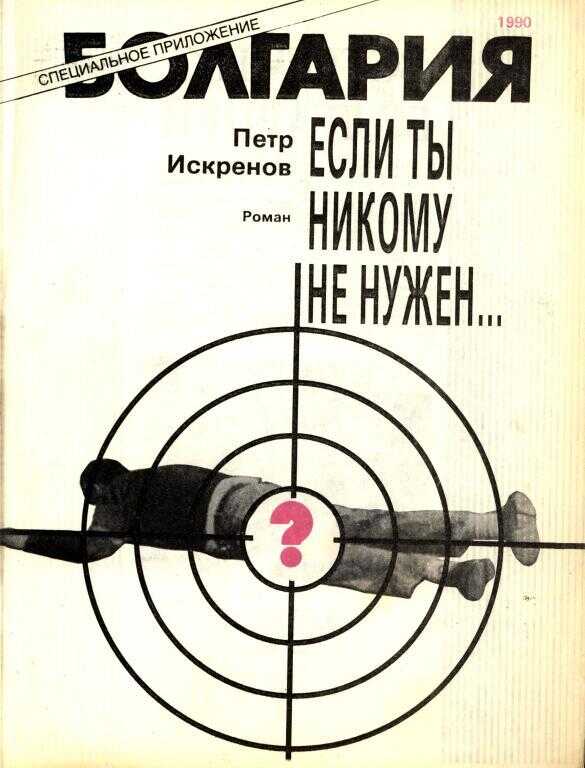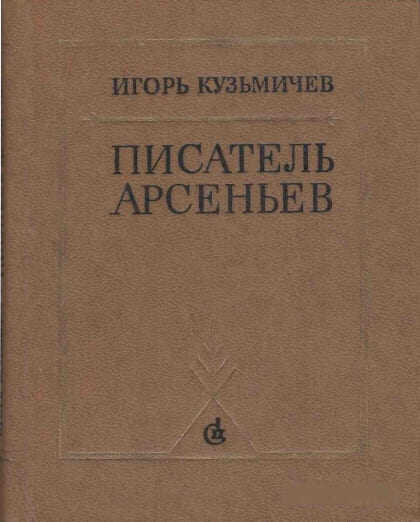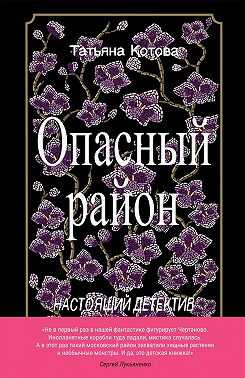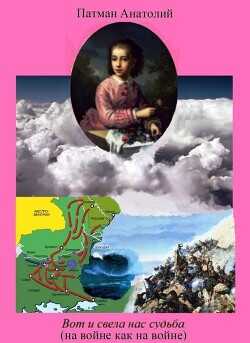устава, и тотчас Гоужвичка бросался комментировать прочитанное. Он приводил в подтверждение уйму различных примеров, и надо было быть совершенным болваном, чтоб не усвоить надлежащие обязанности и добродетели. Затем Лопатович еще несколько раз перечитывал тот же параграф, и новички хором повторяли за ним. Похоже было на то, как богомольцы бубнят молитвы, повторяя их за причетником. На миг Мареку представилось даже, будто где-то близко мимо него проходит процессия в Святой Копчек, к блаженному Рохусу…
— Кто струсит в бою или обратится в бегство перед неприятелем, подлежит расстрелу на месте для острастки остальным!.. — тянет Лопатович.
У Марека екнуло в груди. Он вдруг поймал себя на том, что трусит, стоя за дверью, что готов «обратиться в бегство» перед Гоужвичкой и Лопатовичем. Набравшись духу, он открыл дверь. Узрев «курсанта», «причетники» четвертого взвода в тот же миг забыли обо всех обязанностях и добродетелях чехословацкого воина и, к огромному удовольствию новичков, со всем своим темпераментом обрушились на пришельца. Урок был тотчас прерван; у Марека отобрали все «курсантское» обмундирование и оружие, бросили ему самое худшее, что только нашлось на складе, и под горячую руку назначили его дежурным по конюшне. Капитан, командир эскадрона, к которому Марек явился и доложил о своем прибытии из Пардубиц, только рукой махнул, — и этим вопрос был исчерпан. Незадачливому курсанту оставалось отныне страдать под Гоужвичкой и Лопатовичем до тех пор, пока его не выручит какое-нибудь чудо.
А чудо произошло ровно через три дня. К тому времени уже не только Гоужвичка с Лопатовичем, но и сам командир эскадрона пришли к убеждению, что рядовой Габджа — «идиот, строевые занятия ему не даются, в верховой езде он разбирается как свинья в апельсинах, и вообще он законченный осел и ни к чему не пригоден, — разве что к работе на конюшне».
И вот, когда такая характеристика сложилась окончательно и обрела печать непогрешимости, на пятом бастионе случилась тревога: приехал генерал!.. Да не какой-нибудь, а командир кавалерийской бригады собственной персоной. Когда всеобщий переполох несколько улегся, выяснилось, что во время предрождественской охоты где-то в окрестностях Дунайского Города у генеральской Клеопатры открылась на копыте старая рана, и генералу ничего не оставалось, кроме как поручить «благородное животное» заботам ветеринара 2-го отдельного эскадрона.
У начальства 2-го отдельного эскадрона отлегло от сердца. Тотчас велено было освободить отдельный денник, куда и водворили «благородное животное»; а чтоб оно не скучало, его осчастливили обществом косматой Афродиты, которая в отсутствие Марека порвала сухожилие. Ветеринар осмотрел Клеопатру, назначил лекарства и заверил генерала, что через полтора месяца, при условии заботливого ухода и «непрестанного прикладывания целебных компрессов», кобыла снова сможет ходить под седлом.
— Пан капитан, — обратился к командиру эскадрона генерал, усатый, как старый морж, — вы отвечаете за то, что все эти условия будут созданы.
— Слушаюсь, пан генерал! — вытянулся капитан.
— Прежде всего извольте приставить к Клеопатре кого-нибудь из вашей серой скотинки. Я имею в виду такого солдатика, без которого эскадрон может обойтись. Вовсе не требуется, чтоб он был развит, — из развитых солдат не получаются хорошие конюхи. И пусть он перенесет сюда свою постель. Он не должен ни на шаг отлучаться из денника. Понятно?
— Так точно, пан генерал!
— Во-вторых. Кроме вас и ветеринара, туда никому не лезть. Вашим фельдфебелям и унтер-офицерам там делать нечего. А на конюха в течение всего времени, что он будет обслуживать мою Клеопатру, запрещаю возлагать любые другие обязанности. И я не желаю, чтоб его дергал какой-нибудь сержант.
— Слушаюсь, пан генерал!
— И, наконец, в-третьих… впрочем, это все.
По отбытии генерала капитан задумался; потом хлопнул себя по лбу и вызвал Гоужвичку с Лопатовичем.
— Приказываю прикомандировать к генеральской кобыле нашего «курсанта». Поставить в конюшне его койку и не привлекать его ни к каким иным занятиям. Иду ему будет носить вестовой. Запрещаю входить в конюшню всем рядовым, унтер-офицерам и фельдфебелям. Ясно?
— Так точно, пан капитан!
Таким образом, наконец-то, за два дня до сочельника, Марек Габджа стал сам себе хозяин. Он был, правда, обязан кормить и чистить вверенных ему лошадей, ухаживать за ними, а за генеральской Клеопатрой присматривать даже по ночам, — зато все остальное время принадлежало только ему. Его досуг не отравляли никакие Гоужвички или Лопатовичи. Сигналы побудки, поверки, отбоя не имели к нему ни малейшего отношения. Теплый денник был мал и уютен, рассчитан как раз на трех постояльцев: в стойле у входа помещалась Афродита, в среднем — Клеопатра, а в углу, под окном, поставили койку Марека Габджи — третьей «лошадки». И все же Марек не поменялся бы местами со своими питомицами. Ни за что на свете не хотел бы он порвать себе сухожилия, как Афродита, или страдать от воспалившегося копыта, как Клеопатра.
Марек лечил обеих лошадей даже усерднее, чем того требовал ветеринар; особенно заботился он о Клеопатре, часто меняя компрессы из глины, смоченной уксусом. Хорошо, что в конюшнях Сельскохозяйственной академии он с интересом наблюдал, как лечат воспаления на копытах. А на уроках ветеринарии он вытягивал из преподавателя что только мог. Теперь все это ему очень пригодилось. Ветеринар, посещавший Клеопатру сначала ежедневно, а потом через день, опасался нагноения. Однако после Нового года он увидел, что опасения были излишни: Клеопатра начала наступать на больное копыто, будто пробовала, можно ли на него опереться; а еще через несколько дней она уже била им о землю.
Но чтобы достичь этого, Марек вынужден был пожертвовать не только рождественским, но и новогодним отпуском. Он написал домой и Люцийке два длинных письма и получил ответные. Прежде чем эти ответы дошли, Марек так убрал конюшню, что в ней можно было принимать хоть самого архиепископа, и перечитал все пять очень глупых книг, составлявших эскадронную библиотеку.
Первым пришло письмо от матери. Печальное письмо, она писала его в постели. Из него Марек узнал все, что услышал бы, если б приехал домой в отпуск. Три дня ходил он по конюшне, не выпуская письма из рук, — а этого срока достаточно, чтоб выучить наизусть любое, самое длинное стихотворение. Мамино письмо — не стихотворение, оно все в комьях слов, как пашня, но если б положить его на музыку, вышло бы нечто прекраснее стихов — например, «Рапсодия», или «Мостик над пропастью», или просто «H-moll». Марек не может понять, как это получается: читаешь веселые слова, а посреди фразы на глаза вдруг навертываются слезы…
Второе письмо было от Люции. Сердитое письмо: рождественской ночью девушке пришлось одной возвращаться из костела. Марек, который читал письмо, сидя на своем соломенном тюфяке, подумал, что так


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)