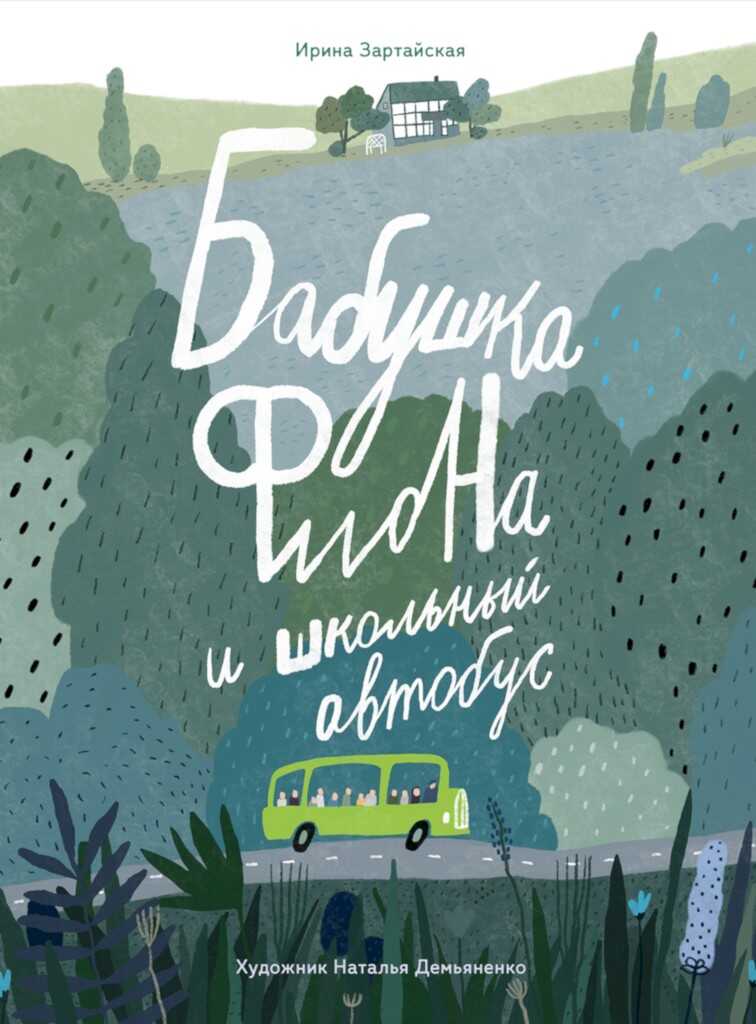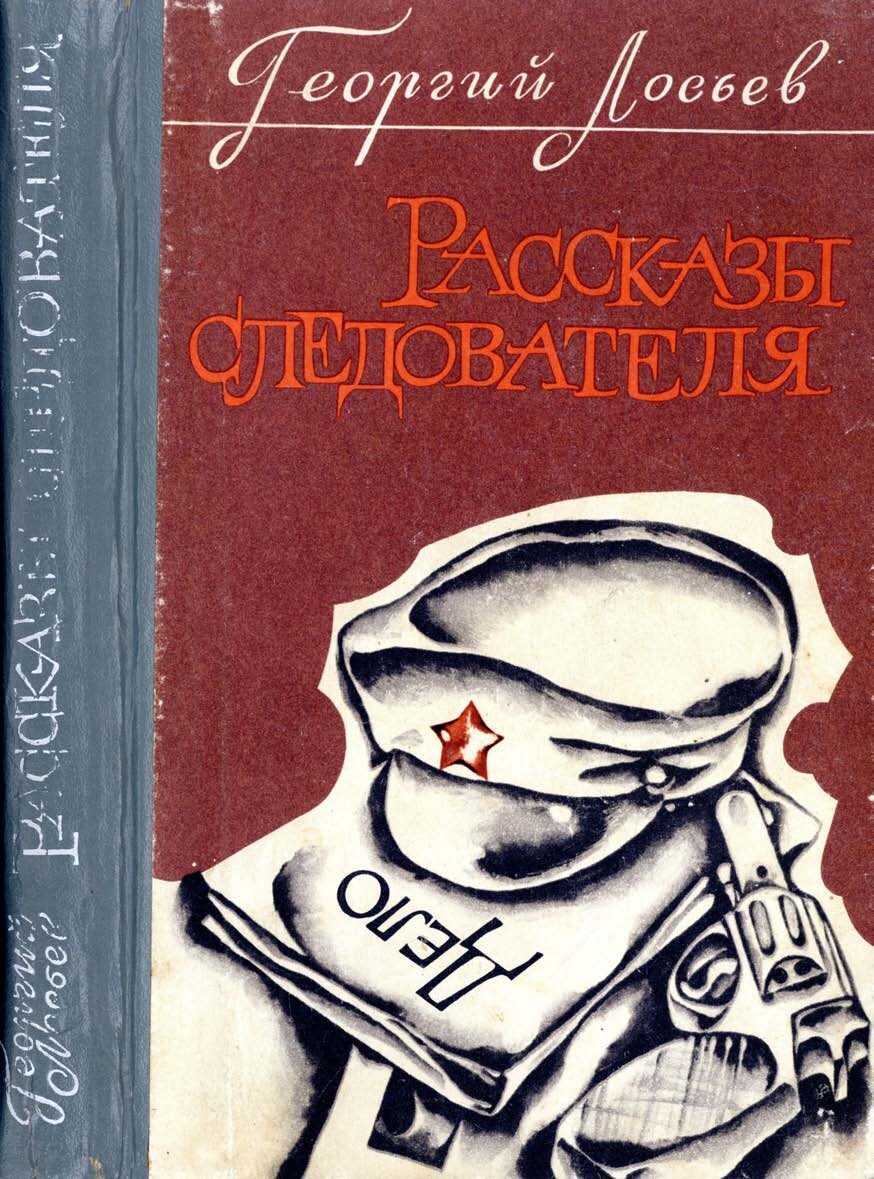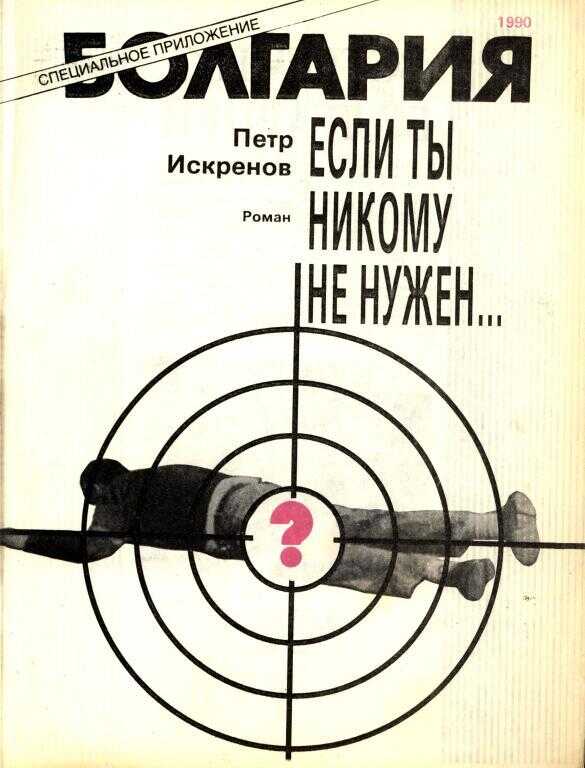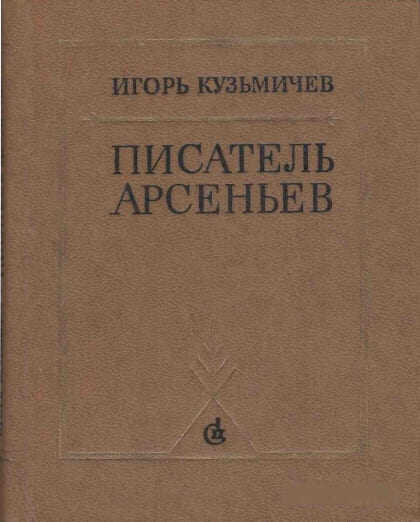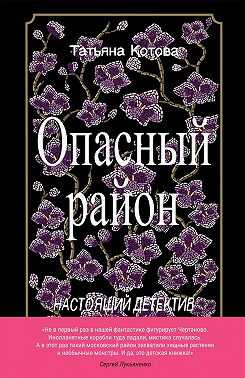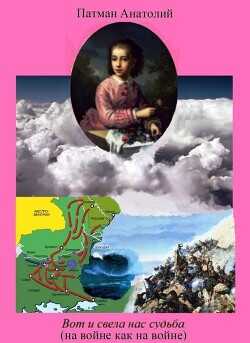ни разу с тех пор, как призван, пан генерал! — вырвалось у Марека.
— Где же вы провели рождественский отпуск?
— При вашей Клеопатре, пан генерал.
Командир бригады собирался распечь капитана, но последний ответ солдата остудил его пыл. И генерал постарался исправить, что можно было. Он сказал повелительным тоном:
— Пан капитан, этот солдат получит не только сапоги, но и отпуск, причем — очередной плюс неделю без указания причин! И в отпуск он отправится… в звании ефрейтора. Понятно?
— Так точно, пан генерал!
Так случилось, что когда настала весна и Волчиндол наполнился запахами свежевскопанной земли, по тропинке на Волчьи Куты спустился Марек — ни дать ни взять генерал! От фуражки до сапог, от петлиц до пуговиц — все на нем было новенькое, добротное, все так и блестело. Татенька прямо оробел перед сыном, а маменька, которая с рождества не вставала с кровати, не могла удержать слез. Марек рассказал им о своей военной жизни только самое веселое и смешное, чтоб мама перестала жалеть его и не задерживала в рабочий день: Мареку не терпелось взять мотыгу и бок о бок с отцом приняться за работу на Воловьих Хребтах; Волчьи Куты уже были перекопаны.
За две недели перекопали и Воловьи Хребты. В Волчиндоле начали прививать лозы. Серафина Панчухова вторично вышла замуж — и очень удачно, по мнению Большого Сильвестра, — за Иноцента Громпутну, который переселился к ней, оставив на произвол судьбы в старой хижине возле Чертовой Пасти двух дочерей-батрачек. Что ж, это к лучшему, по крайней мере девушки как следует проветрят хатенку, доставшуюся им от матери…
В эти же дни вернулся и Иожко Болебрух — полугодичный срок службы в запасных частях истек. Он готовился занять должность главного кладовщика в волчиндольском филиале виноградарского кооператива, основанного в Голубом Городе. Под филиал был отведен дом, построенный некогда Томашем Сливницким и принадлежащий теперь Сильвестру Болебруху. Быть может, этому филиалу суждено будет спасти Волчиндол: он еще и не открылся, а вино уже подорожало. Недавно скупщики предлагали крону двадцать за литр, сегодня дали бы и по две кроны. Жаль, что, припертый к стене требованиями Крестьянского банка, Габджа еще осенью спустил половину своего урожая по девяносто геллеров, чтоб уплатить проценты и часть долга.
И пасха пришлась на дни Марекова отпуска; правда, не вся — он уходил в пасхальный понедельник. Не много радости доставил Мареку этот весенний праздник; до последней минуты оставалось неясным, поймет ли Люция, в чем первый долг молодого солдата: в том, чтобы посидеть у постели больной матери, которую ему, быть может, больше не суждено было увидеть, или в том, чтобы прибежать к двадцать первому каштану, получить от милой крашеное яичко…
Марек предпочел сидеть у постели матери. Он рад, что может побыть с ней наедине. Болезнь Кристины такова, что она может пролежать неделю, месяц, год… но никого не удивит, если она умрет вот сейчас, в ту минуту, когда к ней подсел Марек. Быть может, вовсе не болезнь разрушает ее организм. Быть может, это последствия трудной жизни острыми ножами нацелились ей прямо в сердце? Марек поражается про себя: куда подевалась мама — от нее и половины не осталось! Выкашляла себя. Выстонала в сердечных спазмах. Истаяла ночами, недосыпая. Сама себя сглодала в страхе перед тем, что будет, когда долги созреют, как нарывы, и лопнут, и зальют гноем оба виноградника, и дом, и все ее двадцатилетние мытарства в Волчиндоле…
— Магдаленка думает, будто Иожко Болебрух… По-твоему, что за человек Иожко? — с опаской спросила мать.
— Такой он человек, что женится на Магдушке, — твердо ответил сын. — Но Большой Сильвестр прогонит его.
— И повторится тот же крестный путь, по которому шли мы — твой татенька и я… — заплакала больная.
— Ха! Значит, вы их не знаете! — с притворной веселостью возразил Марек. — Эти двое куда более крепкого закала, чем были вы с татенькой.
— Это верно, закал в ней есть, — улыбнулась Кристина при мысли о дочери; после того, как она слегла окончательно, ей опротивело все ее прошлое смирение. — Только вот бедна она, — печально добавила мать.
— А Болебрухи за богатством не гонятся, им своего хватает. И за свои деньги они могут себе позволить выбрать красоту. А красоты у Магдушки столько, что прямо осыпается с нее…
Мать успокоилась за судьбу Магдаленки, но Адамко тревожит ее.
— Пан учитель Мокуш говорили, что парнишка еще умнее тебя выдался. Не знаю только, кому-то покажет он свой аттестат, когда меня не станет… — И Кристина снова ударилась в слезы.
— Татеньке покажет! — брякнул Марек, и мать заплакала еще жалобнее.
— Ах, вот увидишь, отец сразу уйдет за мною. Как порвется моя ниточка, так и его веревка лопнет. Останетесь вы одни, детки мои дорогие.
— Значит, он покажет его мне! — вскричал Марек резко, борясь со слезами.
Мама подняла голову, придвинулась к сыну — поцеловать его.
— Когда твой поезд? — забеспокоилась она. — И куда ушли наши? Надо бы им с тобой проститься.
— Они к Сливницким ушли. И мы уже попрощались. Я хотел побыть с вами один… Они при вас останутся, я уеду… Ну… живите хорошо… А когда вам будет очень плохо, вспомните, как весело мы с вами хозяйничали во время войны, как мы персики продавали, как вместе собирали виноград, давили вино… и ночью караулили… как ходили вместе на богомолье в Святой Копчек…
Мать схватила сына за руки.
— Думается мне, что уж и бога-то нет! — быстро проговорила она, и сама испугалась. — Вот ты в школы ходил, хорошо учился, скажи мне — есть бог?
Глаза мамы впиваются в Марека, как два сверла, — так и сверлят его; и кажутся они еще острее оттого, что блестят в слезах. Солдат затрепетал. Понял: матери пришлось продираться сквозь дремучие леса горя, чтоб родилось у нее такое сомнение… Во всякие переделки попадал Марек, и на всякие вопросы приходилось ему отвечать, но перед такой задачей он еще не стоял. И прежде чем ответить, он насторожился:
— А почему вы меня спрашиваете?
— Потому что… Ах, опять приступ… боже… Иисусе, за что… я так ужасно… страдаю?!
Из глаз матери струился обнаженный ужас. К счастью, приступ длился недолго.
— Раз вы призываете бога — значит, он есть! — утешил Кристину Марек, а сам подумал, что если и существует где-нибудь какой-нибудь бог, то он не очень-то богат милосердием, если допускает, чтоб больная женщина, измученная жизнью, после сердечного приступа еще билась в припадке астматического кашля.
— Я думала, ты неверующий… Так тут о тебе говорят. Ну, пора тебе, торопись, Марко, сыночек мой!
Она поцеловала сына, сын поцеловал ее.


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)