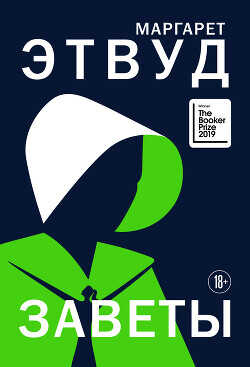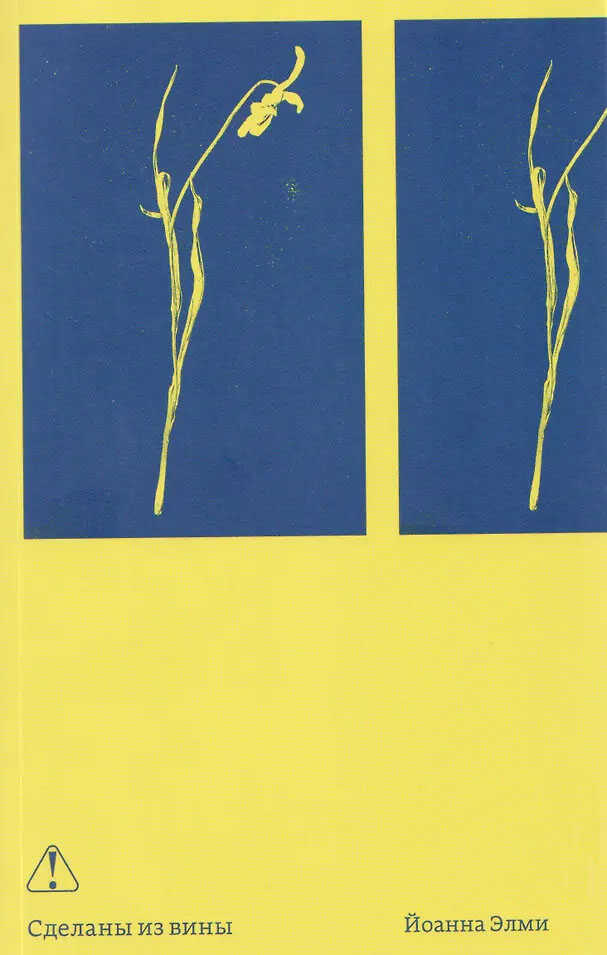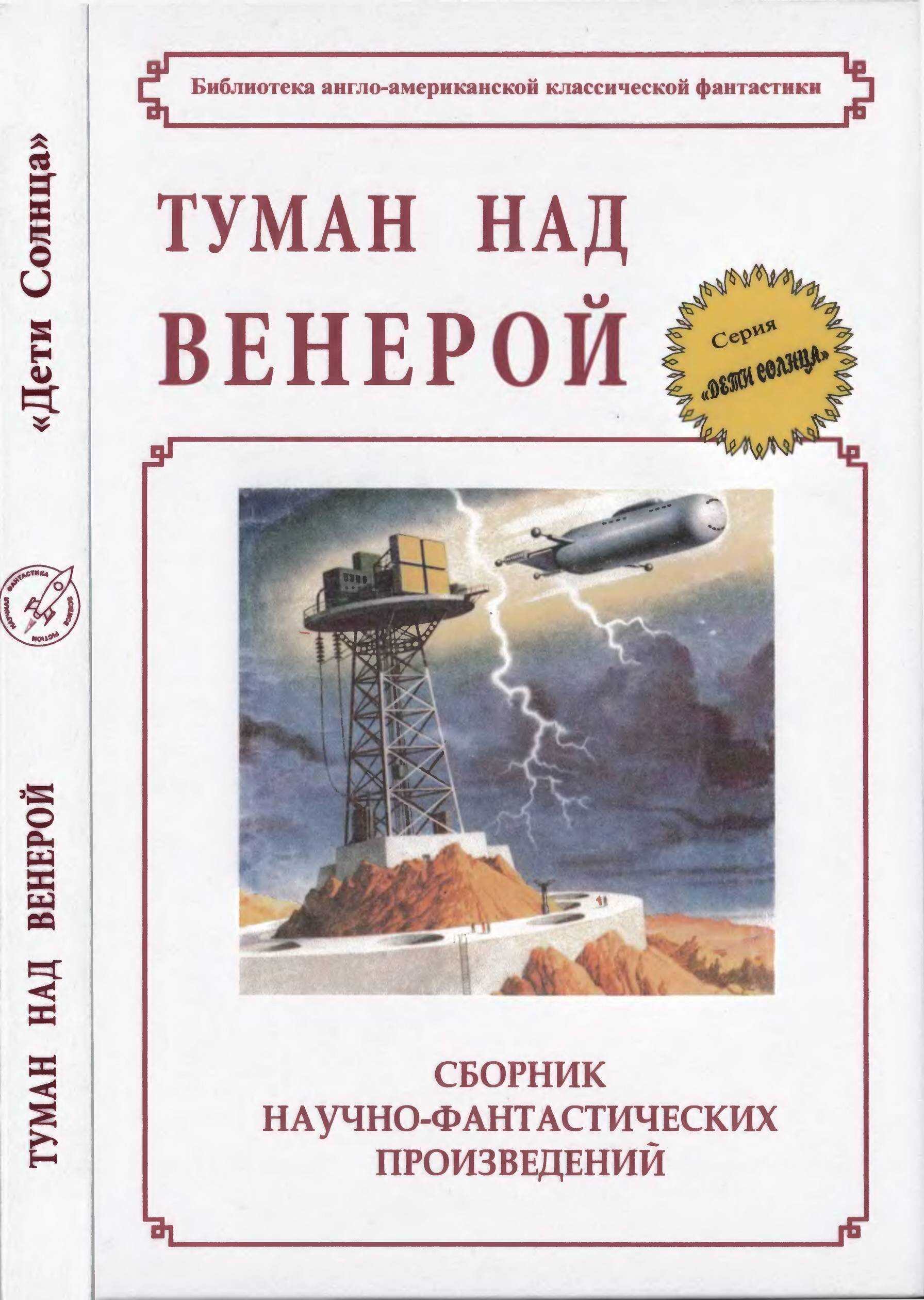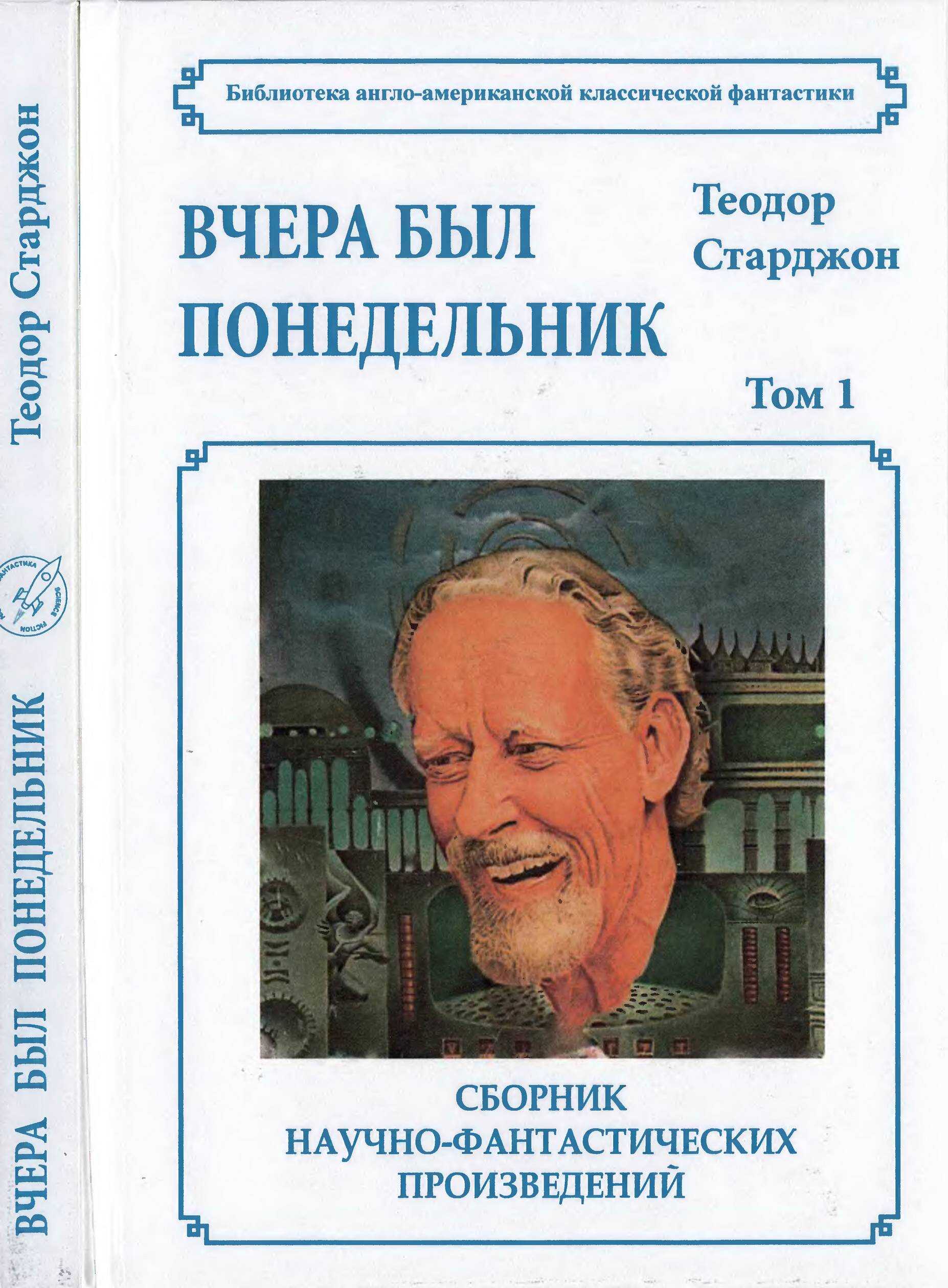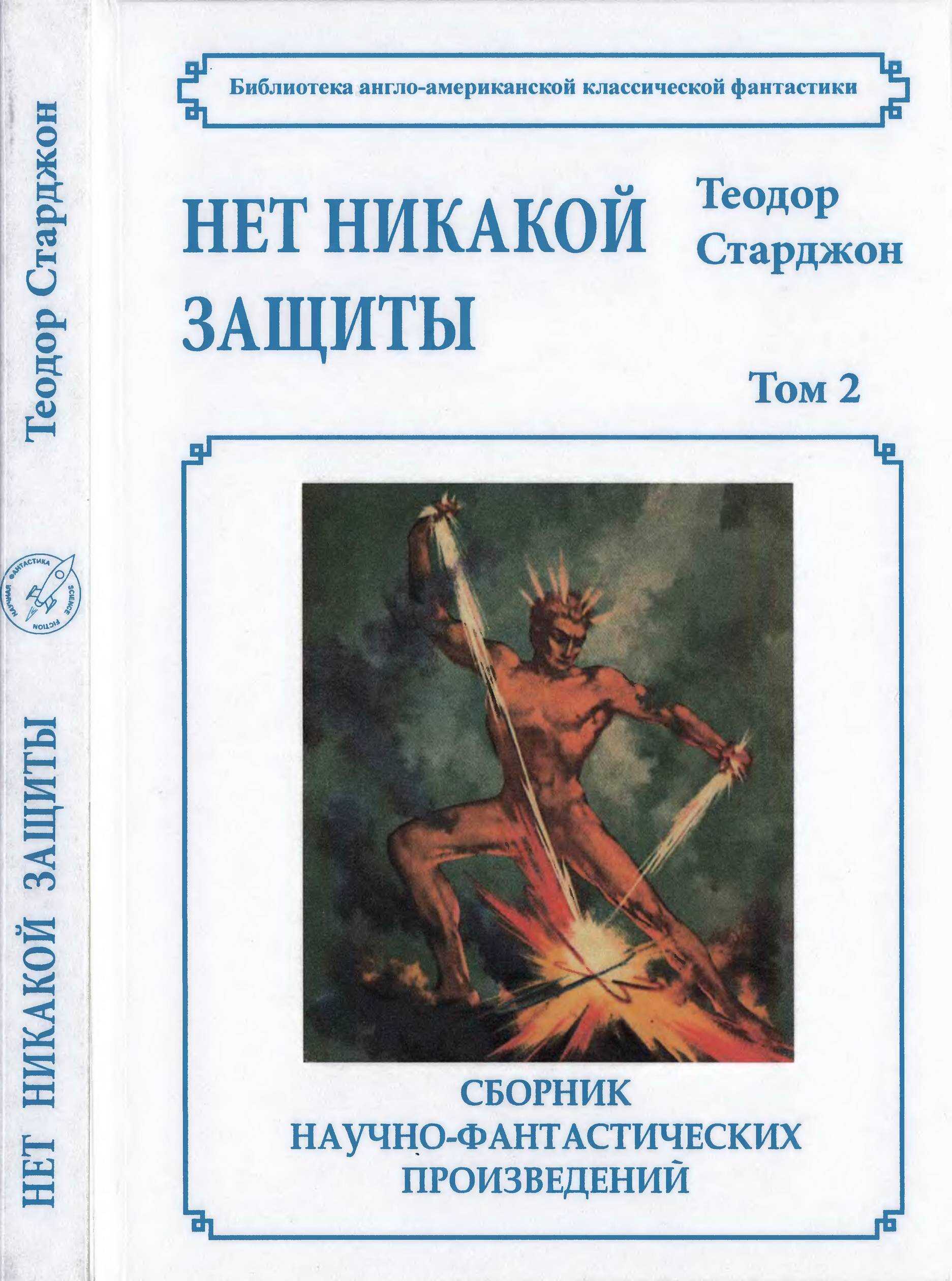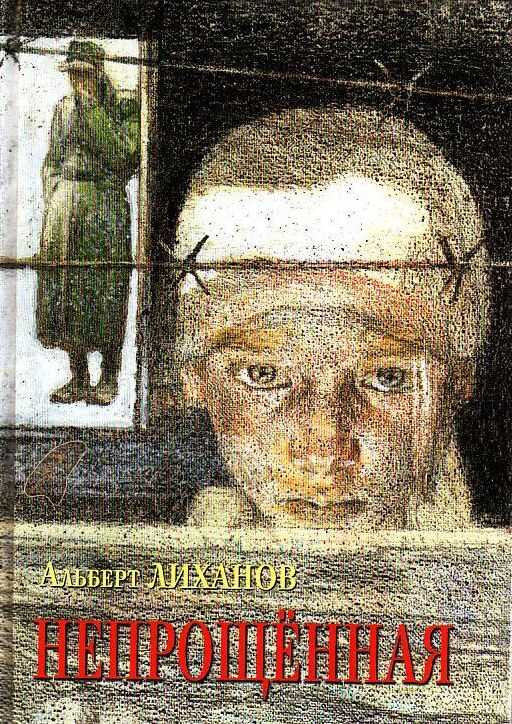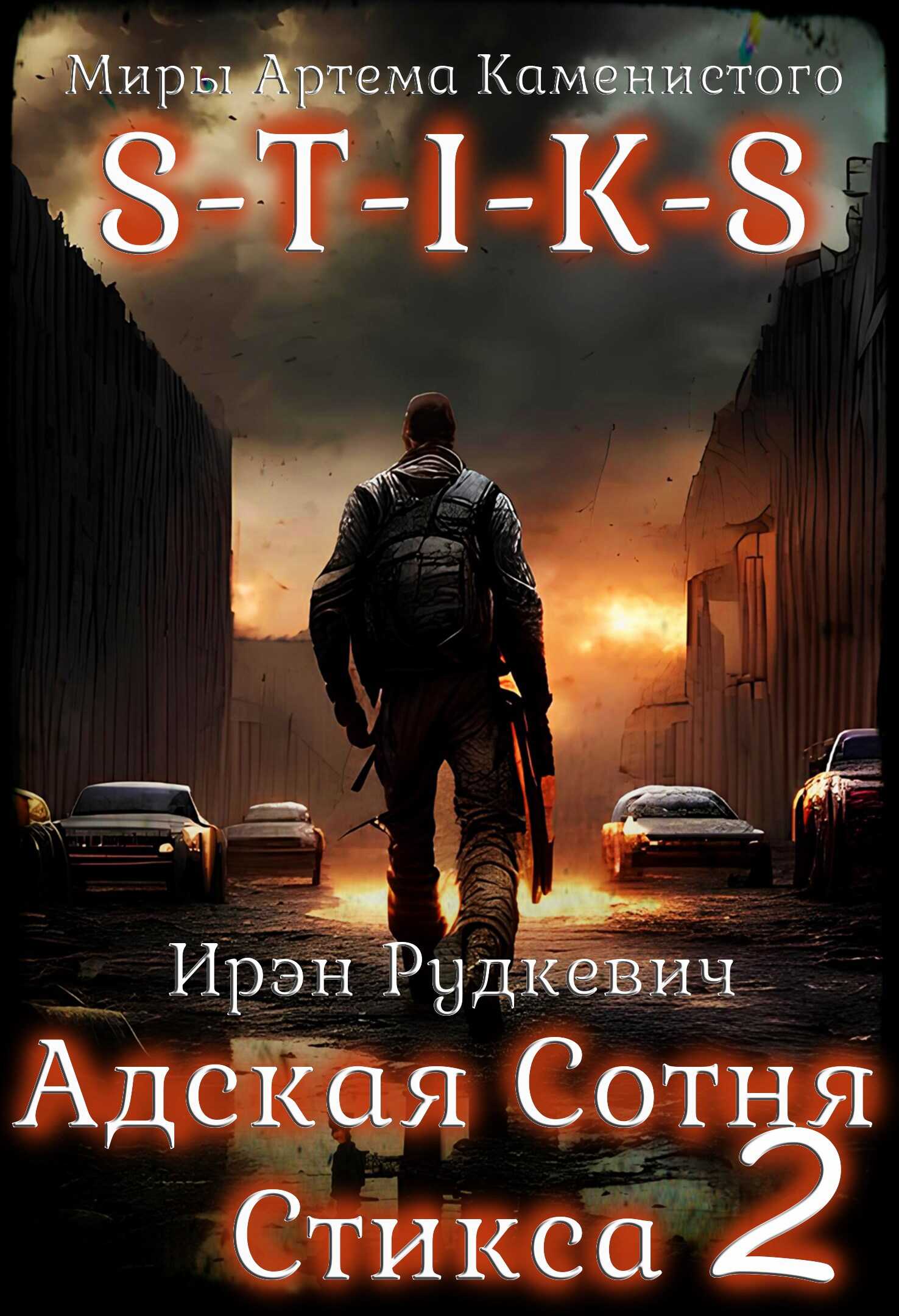его в больничную дверь… От этого воспоминания гнев вспыхнул в груди Люции. И тотчас она уловила отблеск радости на лице отца…
Выбежала в коридор, вышла из здания — Марек стоял у ворот. Снова вспыхнула злобой, повернулась Люция, бросилась обратно. Перед палатой остановилась, тихонько приоткрыла дверь — и застыла на месте: отец как ни в чем не бывало продолжал разговаривать с братом. Иожко стоял совсем близко у постели, наливал в стакан красную кровь…
— У этих двоих ничего не получится, — с нескрываемой радостью говорил Большой Сильвестр, даже усмехнулся облегченно, прямо сел в кровати, принял стакан из рук сына.
Люция не успела прикрыть дверь — отец заметил ее: глаз у него был ястребиный. Но в этот миг порвалась нить, связывавшая отца и дочь. Окончательно сбросив с плеч гнет Оленьих Склонов, Люция отшатнулась от двери и стрелой полетела к воротам…
— Пошли! — шепнула она, ухватившись за руку Марека.
А Большой Сильвестр — он был далеко не глуп и прекрасно понимал, что сына обрел, зато потерял дочь, — усевшись поудобнее в постели, поднес стакан к губам. Рука тряслась у него, и красное вино выплеснулось, окровавило постельное белье. Больной не сумел залпом осушить стакан — половина его содержимого пролилась, потекла по подбородку, оставила на белой рубахе пятна, и пятна эти расплывались на полотне, росли, принимали очертания виноградных листьев, — в пору сбора винограда листья португаловой лозы становятся такими же багряными…
ВОЗВРАЩЕНИЕ И БЕГСТВО
В начале октября Волчиндол наливается сладким запахом бродящего виноградного сока, аппетитно пахнет кипящее сливовое варенье. Листва на склонах, и хребтах, и седлах, поросших лозой, быстро меняет цвет. Кусты сильвана, рислинга, медовца обливаются цыплячьей желтизной, розовеют ряды шаслы и муската, а темно-зеленые листья франковки и португала будто кто-то намочил в крови — так и пылают огнем, и только мороз погасит его.
Но еще до того, как окровавились листья франковки и португала, спустилась с Оленьих Склонов Люция, неся чемоданчик. Там, где начиналась дорога, окаймленная сиренью, ее ждал Марек; он взял чемоданчик у нее из рук. Марек не стал подниматься на Оленьи Склоны — не мог. Улыбнулся: он держал в руках все состояние Люции…
Так молодая супружеская пара спустилась на дно Волчьих Кутов, полностью уравнявшись в имущественном отношении.
Франчиш Сливницкий — уже неделя, как его избрали старостой, — подошел к калитке с бутылкой и чарками. Налил, пожелал молодым Габджам всех благ, показал под пышными усами оба полукружия здоровых зубов.
Из дома с красно-голубой каймой выбежал Матей Ребро с молодой женой.
— Хочешь, зайди к нам, попрощайся с родным домом, — пригласил он товарища детства. — Посмотришь, как мы живем…
Марек даже не взглянул на дом — стоял спиной к нему, не сводя глаз со старой лачуги Ребра; она совсем завалилась, того и гляди рухнет.
— Пойми ты, Матько… не могу я… видеть дом. Желаю тебе жить в нем долго и счастливо… но — не могу…
Марек так осторожно вытаскивал слова из глубины души, будто были они в острых колючках.
За часовней, у подножья Бараньего Лба, притулилась волчиндольская школа. Дворик кишмя кишел детьми, звенели их тоненькие, козлячьи голосишки. Учитель Коломан Мокуш, уже постаревший, совсем седой, проковылял навстречу молодоженам, протянул к ним обе свои добрые руки.
— Спасибо вам, пан учитель! Никогда мы вас не забудем.
Хромой учитель помялся, сгорбился, шагнул, припав на больную ногу, — и только тогда нашел в сердце ответ.
— И я не забуду вас. Все вижу вас в классе… Люцийка опять не знает географии, минутки спокойно не посидит… А Марек без конца читает под партой! Ах, дети, когда я в наказание посадил вас рядом — я тогда уже надеялся, что вы… соединитесь… наперекор всему!
Дорога за Бараньим Лбом шуршала под ногами желтыми листьями старых орехов. На ступеньках, ведущих к дому Филипа Райчины, уходящих поджидала еще одна молодая пара: Аничка Бабинская и муж ее Мартин Райчина. Совсем еще телята, им бы на лужке пастись… Держатся за руки, разжали их только на минутку, чтоб попрощаться с отъезжающими, и снова ухватились друг за друга…
Люция шла, прильнув к плечу мужа, — такая счастливая, что сердце рвалось из груди!
— Можно мне спросить тебя об одной вещи, Марек? — виноватым тоном заговорила она.
— Конечно!
— Тот портрет, который я… ну, ты знаешь… Ты его ей не отдал?
Марек понял, изо всех сил сжал руку жены.
— Нет!
Больше он не успел ничего сказать — из-за поворота перед часовней святого Венделина показалась еще одна молодая семья; жена держала на руках ребеночка.
— Надо вам поторопиться, а то, смотрите, мы вас уже обогнали, — засмеялся, показывая на ребенка, Якуб Крист, зять Филомены Эйгледьефковой.
— А мы уже боялись, что вы… так и разойдетесь, — шепнула Люции Веронка, сильная, как яблоня. Было ясно заметно, что под сердцем она носит второе дитя.
За Воловьими Хребтами Габджи встретили Негреши. Старик нес почту из Зеленой Мисы.
— Вам ничего нет! — хлопнул он по своей кожаной сумке и подмигнул; только глаза и остались молодыми на его старом-престаром лице.
— И так вы много писем на Оленьи Склоны переносили, — с благодарностью отозвалась Люция.
— Много, да всё веселых, ящерка моя! Вы таких и не заслуживали! Зато на Волчьи Куты редко доводилось мне приносить веселье, — уже грустно добавил письмоносец. — Слали сюда все повестки, напоминания, доплатные… Эх, легче б мне их своими руками порвать по дороге…
— Это уже прошло, дедушка, — вздохнул Марек.
— И все пройдет, — сплюнул дед. — Все там будем… Что-то ноги мои хуже двигаться стали… И пить невмоготу… Зиму не переживу. Что передашь, сынок, отцу с матерью?
Негреши поднял голову, посмотрел на сына умерших — и слез не вытер.
— Дедушка! — Марек обнял старого сторожа, печально проговорил: — Живите еще долго — всегда вы людям… добрым делом помогали…
Венделин Бабинский вышел из сада, подал уходящим свою лопату-руку.
— Стало быть, уходите… Жаль! Мне следовало бы хоть для приличия удерживать вас, но… к несчастью… я уже не староста. Габджа, Габджа, — покачал он головой, — двадцать с лишним лет назад принесли сюда эту странную фамилию молодые супруги из Зеленой Мисы. А вы — такие же молодые — уносите ее из Волчиндола в широкий мир. Слишком непривычно звучала здесь эта ржущая фамилия, хоть и перевернула весь Волчиндол. Без него были бы в нашей дыре не яблони, а дички, не виноград, а картошка… зависть да себялюбие, а не общий труд… Ты не сердись, Люция, — попросил бывший староста молодую женщину, будто не решаясь высказать то, что собирался, — у нас тут прочно укоренилась фамилия Болебрух, да слишком уж придавила


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)