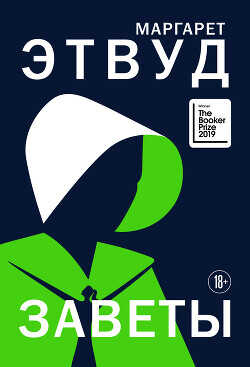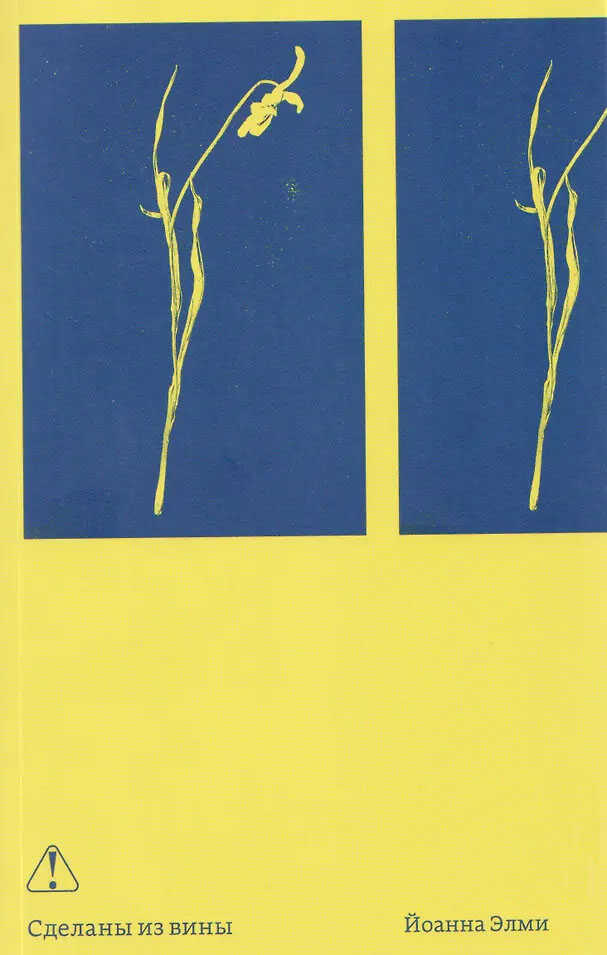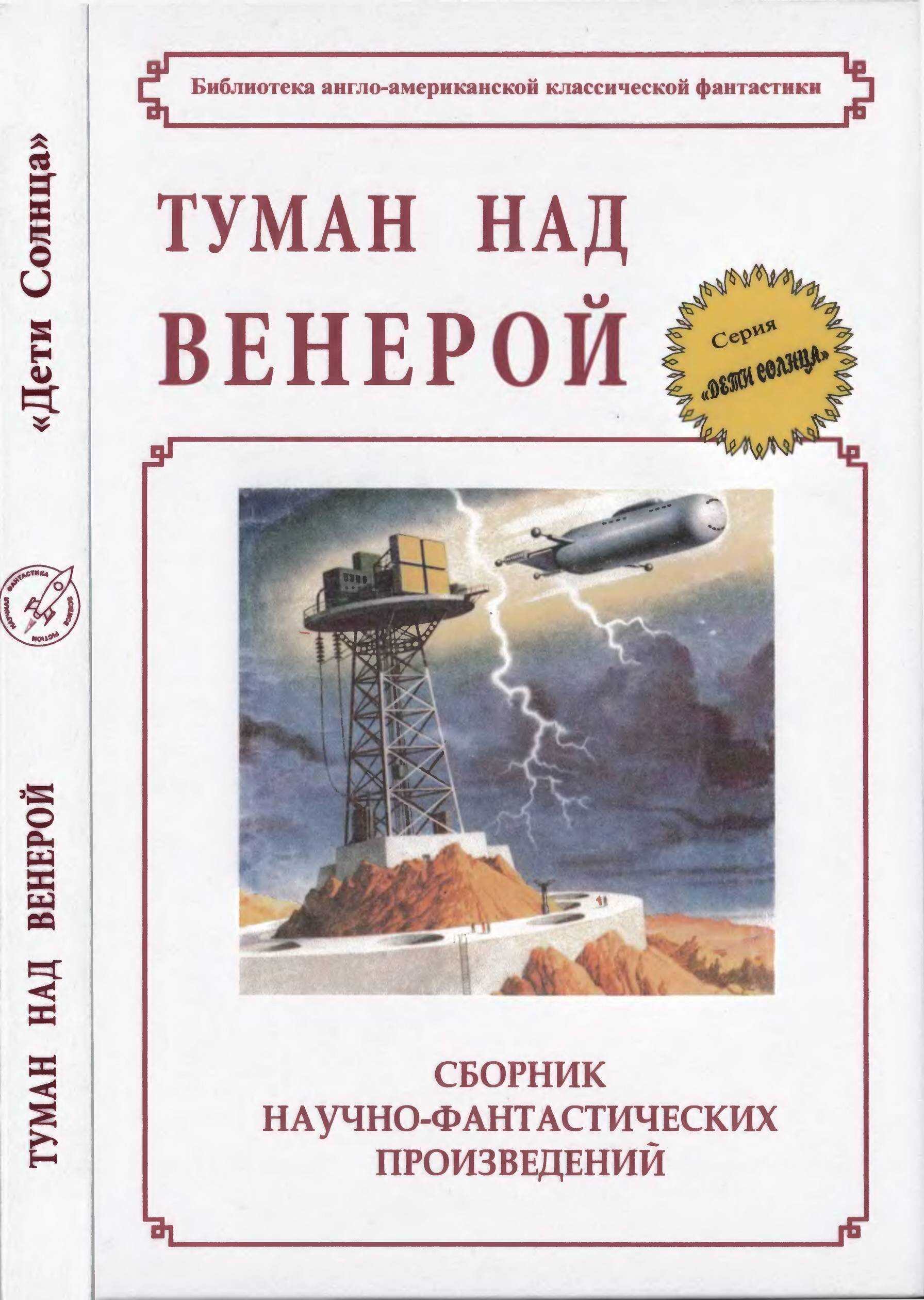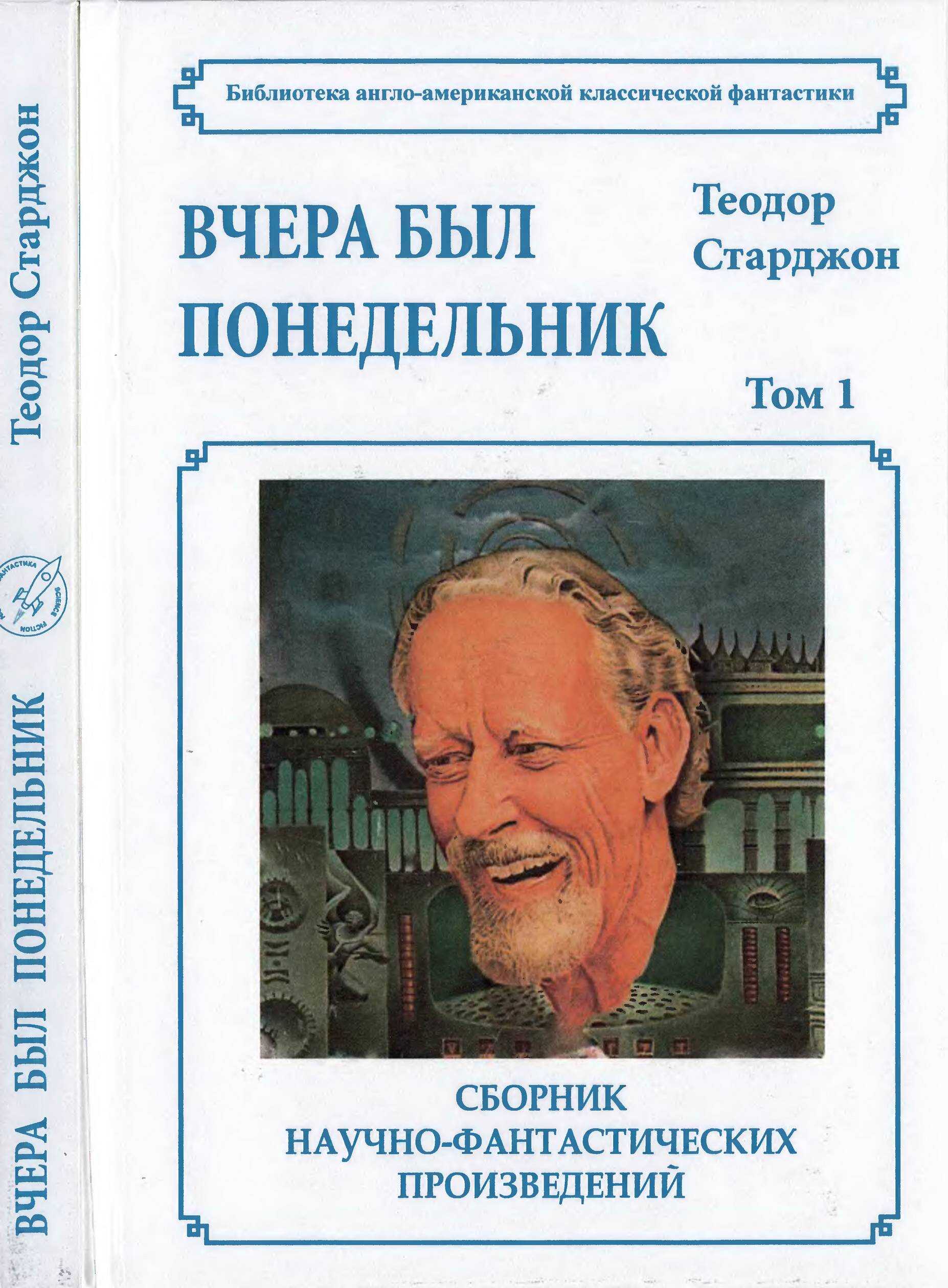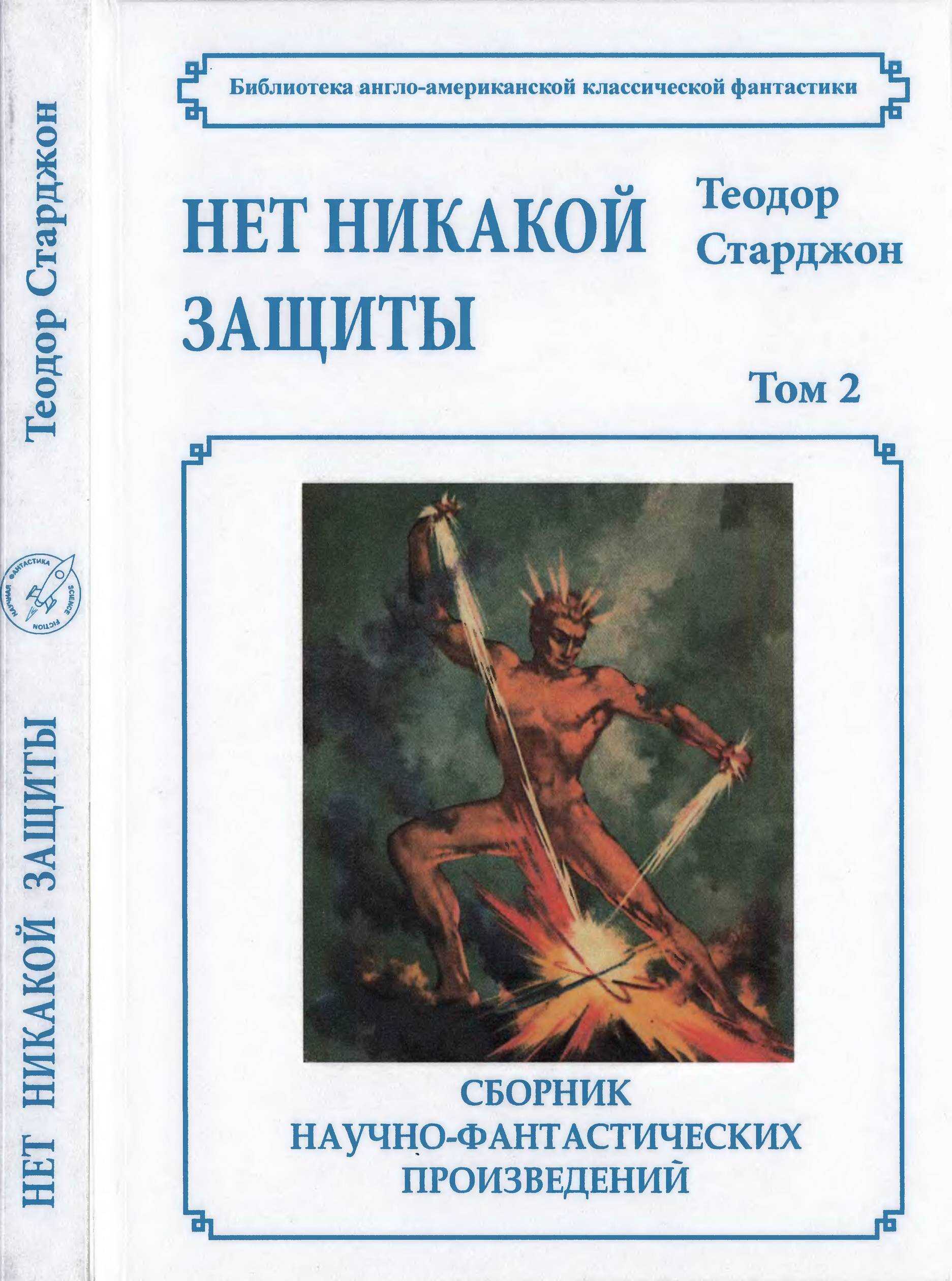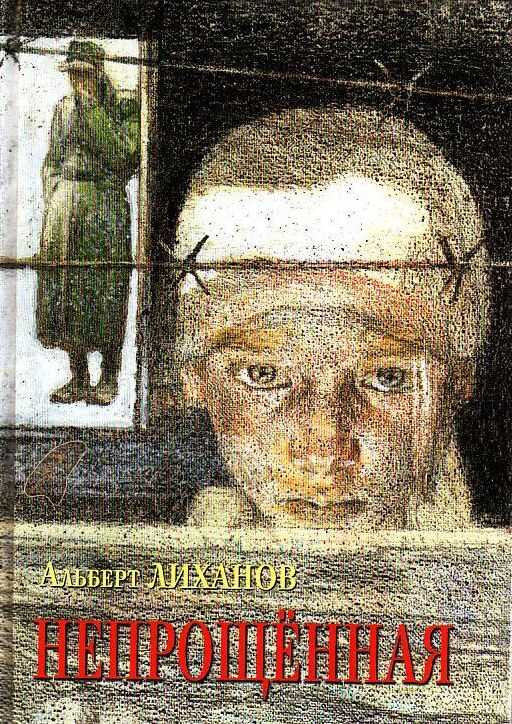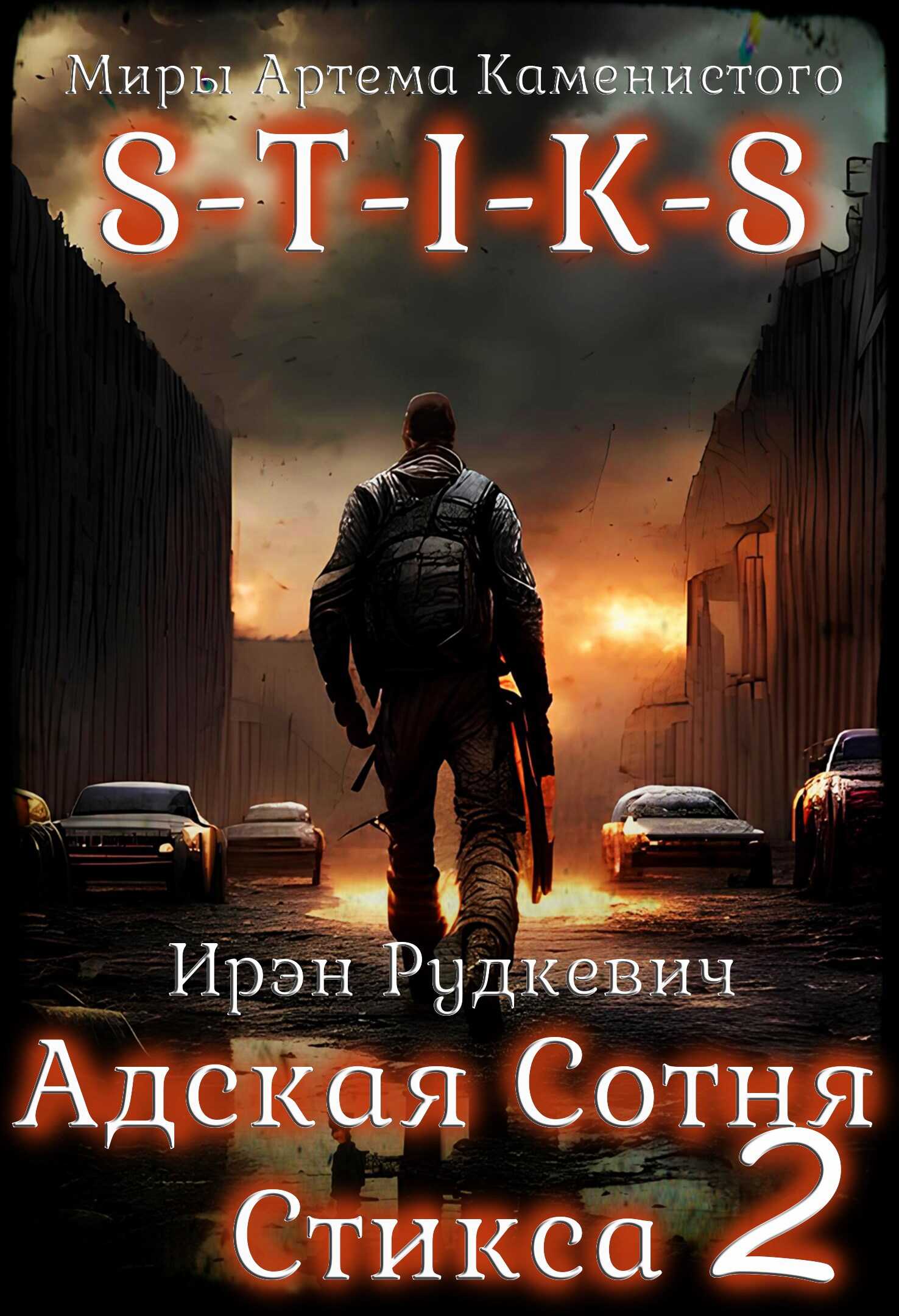она нашу деревню…
— Ну, счастливо оставаться, дядюшка! — простился с ним Марек.
— И не сердитесь на меня за то, что я была Болебрухова, — теперь я Габджова!
— Э, тебе это давно простилось! — весело воскликнул Венделин Бабинский.
Он глядел им вслед, пока они не скрылись за поворотом дороги, в том месте, где по обочинам пышно разрослись сливовые деревья.
На мосту, небрежно переброшенном через Паршивую речку, Марек и Люция поклонились святому Яну из Непомук, присели на низенькую ограду. В последний раз смотрели на заросший кустами и деревьями овраг, откуда оба вышли. Они не оставляли в нем ничего — ни сердца, ни души… Поднялись, перебежали по мосту на тропку, что ведет вдоль реки, мимо Вербняков и Лужков, к Капустникам и Конопляникам, а оттуда — к гумнам Местечка.
Гумно габджовской усадьбы было голое. Деревья засохли, некоторые повалились от старости.
Залаяла собака, подбежала. Узнала их — стала кидаться, вилять хвостом.
Марек и Люция обогнули амбар и очутились во дворе. Сами не думали, что он так велик: просторный, заваленный дровами, навозом. И все же он как будто бы пуст — ни одного деревца! Все высохли, одни пни торчат. От садика за сараем, набитым хламом, остался один плетень, да и тот дырявый. Зато хлева были в полном порядке. От них тянуло острым запахом скотины, свежего навоза.
Возле колодца молодые люди остановились. Колодец был с насосом, деревянный. Рядом — длинная водопойная колода, крепкая, дубовая. Марек поставил наземь чемоданчик Люции, сел на край колоды, подбрасывая на ладони затычку.
— О чем задумался, Марек?
Марек забил затычку в отверстие колоды, встал, потянул носом воздух и медленно повернулся, озираясь — казалось, он хотел обнять взглядом все, что должно было принадлежать ему. Его расширенные зрачки остановились на лице жены.
— О чем я задумался? — переспросил он. — Обо всем, что со мной произошло. Ведь я — вернулся! Я на том самом месте, где родился. И сюда я привел жену, чтоб переночевать с ней в родном доме, и… пойти скитаться по свету. Я вернулся с тобой, моя самая дорогая!
Люция сжала руку мужа, но сказать ничего не успела — из дверей кухни послышался голос бабки:
— А возы ваши где?
Люция вспыхнула до корней волос, но Марек нашелся:
— Придут послезавтра или через три дня, сейчас много работы коням да волам на Оленьих Склонах — возят вино в Сливницу.
Вечером зажегся огонек в верхней горнице, задернулись занавески. Загляделись молодые Габджи на ясный свет лампочки: в Волчиндоле электричества не было, Волчиндол не пожелал расходоваться, когда ставили столбы на плоской Сливницкой равнине. Загляделись молодые Габджи, улыбнулись — очень уж чист был свет. Такой же горел и у них в глазах.
— Марек, — приникла к мужу Люция, — покажи мне… тот портрет!
Марек открыл свой чемодан — тоже единственное имущество, которое он мог внести в семейный фонд.
— Вот он! Думал я сначала отдать его маменьке… Так они никогда и не узнали, что с меня портрет писан…
Люция спрятала портрет в свой чемоданчик, — этим она вознаграждала себя за потерю наследства. И спросила — хотела еще крепче увериться в том, что не надо ни о чем жалеть:
— Ты никогда не любил другую?
— Никогда. С тех пор как ты укусила меня, когда пан учитель в наказание посадил нас рядом, — с этих самых пор ты не выпадала у меня из сердца. Еще в «Тюльпане» я мог бы без тебя обойтись, и все-таки никак не удавалось мне вырвать тебя из сердца!
— Целых три воскресенья ждала я тебя под каштанами — и под одиннадцатым, и под двадцать первым. А ты ходил, смеялся, шутил с Аничкой Бабинской. Я ненавидела ее: зачем она такая красивая! И люди мне передавали, будто ты женишься на ней, будто покупал ты в Сливнице обручальные кольца, будто ходил с ней к священнику… А татенька… сам знаешь… подливали масла в огонь. Сколько вечеров я руки кусала, волосы на себе рвала… И было мне все равно — что умереть, что замуж выйти…
— Ты могла написать мне! Или не уходить тогда — у часовни святого Урбана…
— Господи, Марек! Да помнишь ли ты, с какой ненавистью посмотрел ты на меня тогда, после аукциона? Как могла я остаться? Сегодня, когда ты отказался проститься с вашим домом, я поняла, почему ты так на меня смотрел: ты видел во мне дочь своего заклятого врага! А я все-таки любила тебя. И стоило тебе слово сказать, я бы пошла с тобой еще тогда…
— Я был слеп и несчастен…
— Потом ты перебрался в «Тюльпан», даже не откликнулся, когда я вернула тебе портрет… а татенька принесли весть, что ты женишься на Аничке… Я захотела отомстить тебе… собственными муками. Но когда старый Негреши отдал мне письмо, которое он два месяца носил в своей сумке, — помнишь: «Милое имя, начинающееся буквой Л.!» — тогда я в подвенечном платье почувствовала себя будто голой… По дороге к костелу доверила нашему работнику, что задумала. Он слез, а я — на козлы, и вот…
— Люцийка моя! — И Марек прижался губами к щеке жены.
— Я страшно люблю тебя, Марек. Пей, играй в карты, бездельничай, колоти меня — только любить не переставай! Я хочу греться в твоей любви, как на солнышке. Наверное, нас будет много, Марек… И знай — я ведь уже не одна…
Марек схватил ее в объятия. Люция была податливой в его руках — ей хотелось, чтоб он полнее мог обнять ее; тогда она тоже обвила его руками, губами припала к его губам, — и разнять это объятие она не хочет, не может, не собирается!
Три дня и три ночи провели молодые Габджи в доме на зеленомисской площади. На четвертый день, еще затемно, вышли на улицу с чемоданами в руках. Тихонько, как воры… отправились в Сливницу.
В тот же день продавали с молотка габджовское гнездо. Дом вместе с бабкой приобрел Микулаш Габджа — он давно уже примеривался устроить здесь трактир. А землю купил Рох Святой, — и этот давненько пялил на нее свои завидущие глаза…
И ВЕЕТ ВЕТЕРОК…
О господи на небеси!
Не карай недостойного сына, что, обладая слухом, рассказывал о неслышанном, одаренный же зрением, рисовал невиденное, что возвращался мыслью к пожарищам, никогда, быть может, не полыхавшим пламенем!
Оставил еси ему его фантазию.
Ночами, когда крепко спало все земное, обега́ла она, шальная, дно мира, имя которому Волчиндол, чтобы перед тем, как вернуться в мир, провести ночь в Зеленой Мисе, где и родилась она…
Ах ты моя прекрасная Зеленая Миса!
Люди смеются над тобой — мол, безобразна


![Красное вино Победы[сборник 2022] - Евгений Иванович Носов](/uploads/posts/books/346516/346516.jpg)